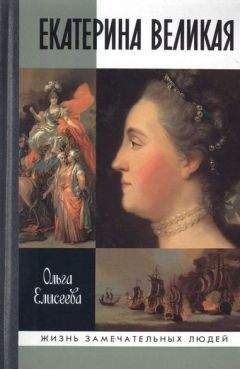— Однако, я, кажется, заговорил тебя, — спохватился наконец Дидро. — Как ты нашел Петербург?
— С’est un vrai tourbillon, mon cher, un vrai tourbillon[25], — произнес Гримм. Каждый день — молебны, балы, обеды. Эти праздники меня доконают.
— А что императрица, видел ли ты ее?
— Я был представлен ей вместе с графом Людвигом и, надо признаться, принят ею чрезвычайно милостиво.
— Какой ты ее нашел? — Дидро, не отпускавший во время беседы руку своего друга, порывисто потянулся к нему.
— Это великая женщина, — просто ответил Гримм. — Она величественна и проста. Скажу тебе по правде, Дени, из европейских монархов я мог бы сравнить ее только с Фридрихом. Тот же масштаб, та же порода — и эта удивительная естественность…
Дидро, не любивший прусского короля, поморщился.
— Но вот незадача, мой друг, — продолжал между тем Гримм, — генерал Бауэр, он служит здесь при дворе, объявил мне от имени императрицы, что Ее величеству угодно принять меня в свою службу.
— Поздравляю, — воскликнул Дидро, — ты будешь прекрасным воспитателем великого князя.
— Ты забываешь, мой друг, что великий князь достиг совершеннолетия и не далее как третьего дня женился, — отвечал Гримм со спокойной усмешкой. — Впрочем, он представился мне, и я нашел его вполне достойным молодым человеком.
— Так в чем же должны состоять твои обязанности?
— Генерал не уточнил, — сказал Гримм. — Впрочем, это не имеет значения, я решил отказаться.
— Но почему? — воскликнул Дидро.
— Думаю, что по той же причине, что и ты, мой друг, столько медлил с приездом. Екатерина — великая государыня, но она правит странной страной. Впрочем, это еще и не страна, так, набросок, мираж. Карикатура на Европу, написанная рукой турка.
— Однако ты зол сегодня, — проговорил Дидро.
— Ничуть, — спокойно отвечал Гримм. — Не скрою, я растерян, потому что не знаю, как отказаться. Что же касается России, о, ты сам все увидишь.
Гримм помедлил, остро глянул на своего друга и добавил:
— Если захочешь, конечно.
Только спустя несколько дней, под конец свадебных торжеств, Гримм нашел случай объясниться с императрицей. Вот как он сам описывал впоследствии состоявшийся между ними разговор:
«Войдя в комнату, я увидел государыню с тем величавым выражением достоинства, которое в ней было так естественно и не имело ничего строгого, а между тем меня смутило.
— Ну что же, — сказала она, — вы желали переговорить со мною. Что имеете вы сказать?
— Если Ваше величество, — отвечал я, — сохранит этот взгляд, то я должен буду удалиться, потому что чувствую, что голова моя не будет свободна и что, следовательно, напрасно было бы злоупотреблять минутами, которыми Вам угодно мне пожертвовать.
Улыбка просияла на ее лице.
— Садитесь, — сказала она, — и потолкуем о наших делах.
Успокоенный таким милостивым обхождением настолько же, насколько я был скован перед этим, я высказал, что если бы я безусловно тотчас согласился бы принять сделанное мне предложение, то доказал бы этим лишь готовность во что бы то ни стало воспользоваться счастием, что подобного рода людей у государыни найдется вдоволь под рукой; что предложение это вскружило бы голову и покрепче моей; что, тем не менее, оно заставило меня задуматься; что как бы я ни был счастлив посвятить ее службе остаток дней своих, тем не менее даже ее всемогущество не может изменить того, что я две трети своего существования провел вдали от нее; что мне было уже за 50 лет и что я не в праве надеяться изучить русский язык; что по моему убеждению нельзя быть полезным деятелем, не зная языка того края, которому служишь»[26].
Гримм упомянул и об интригах и происках, так часто встречающихся при дворе, высказал опасение насчет неизбежной зависти, которая заставит его делать промахи. Екатерина, улыбаясь, отвечала, что не понимает таких тонкостей.
Не сказал Гримм Екатерине в тот раз лишь одного. Главного, в чем он признался лишь спустя много лет:
«Не лета мои, не невозможность изучить русский язык, не двор, с окружающими его опасностями, не страх ошибок удерживали меня от исполнения столь лестной и счастливой для меня воли государыни, меня удерживало опасение, что столь блестящая перемена в службе моей не может быть продолжительной. Я предпочитал полное лишение предлагаемого неверной возможности его потерять».
Признание любопытное, и к тому же доказывающее, что Гримм, был если и не искренним, то, во всяком случае, чрезвычайно умным человеком. А это, согласитесь, немало.
9
Точная дата представления Дидро Екатерине достоверно не известна. С уверенностью можно сказать только то, что первая встреча императрицы и философа произошла не позже 5 октября, то есть через пять-шесть дней после приезда Дидро в российскую столицу.
По признанию самого Дидро, он был настолько взволнован во время этой встречи, что решительно не помнил, о чем говорил. Должно быть, однако, слова его доставили удовольствие Екатерине, во всяком случае, тронули ее своей искренностью.
После часовой беседы она сказала ему:
— Господин Дидро, видите дверь, в которую вы вошли? Она будет открыта для вас всякий день с трех до пяти часов пополудни.
Кабинет императрицы Дидро покидал в состоянии сильнейшей ажитации. В письме дочери, он признавался, что, собираясь в Петербург и подумать не мог, что будет беседовать с русской императрицей один на один каждый день. Небольшая аудиенция после месячного ожидания и возможность проститься — вот все, на что он рассчитывал.
Вышло, однако, по-другому. За пять месяцев, проведенных в Петербурге, Дидро беседовал с Екатериной не менее шестидесяти раз. Разговор длился обычно от полутора до двух часов, хотя Дидро, никогда не знавший точно, который час, часто опаздывал и приходил во дворец, когда наступало время приема других лиц. Екатерина порой не знала, как распрощаться с увлекшимся философом.
Были и другие сложности. Дидро, не признававший условностей ни в одежде, ни в поведении, в Париже в кругу своих друзей-философов слыл большим оригиналом. В Петербурге же, при пышном екатерининском дворе, да еще во время праздников, он выглядел странно.
«Он никогда даже не думал о том, что во дворец нельзя являться в том же костюме, в котором ходят в чулан; он отправлялся к императрице весь в черном», — вспоминала дочь Дидро.
По приказу Екатерины Дидро прислали придворный костюм.
Это, однако, мало что изменило. В кабинете Екатерины философ чувствовал себя совершенно свободно.