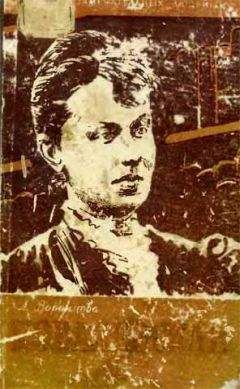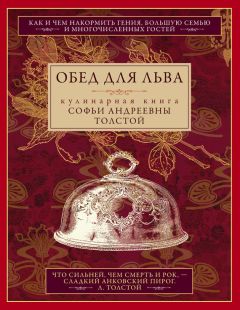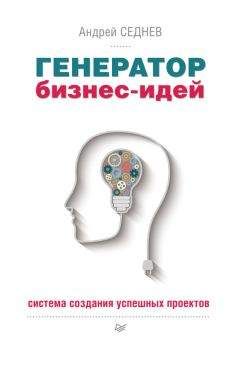За короткое время Яковлев сумел заслужить всеобщую ненависть.
Василий Васильевич находился с ним в чисто официальных отношениях и очень искусно избегал необходимости видеть его у себя дома. Но перед 5 сентября полковник сообщил, что он сочтет за большую честь и удовольствие принести свои поздравления жене предводителя дворянства.
Елизавета Федоровна, хотя и не интересовалась политикой и во время восстания не держалась ни стороны русских, ни стороны поляков, все же начала громко возмущаться. Прямая и сердечная, она не мирилась с жестокостью и деспотизмом, ей претило принимать в своем доме таких лиц, как Яковлев. Василию Васильевичу стоило больших усилий убедить жену, что это безумие — отказать Яковлеву. После долгих дебатов, которые велись при детях, Елизавета Федоровна, наконец, уступила и обещала мужу быть вежливой с мерзким гостем.
Не смирилась только Соня! Вечером, накануне праздника, она долго не могла уснуть. Яковлев даже не подозревал, какие кровавые замыслы роились в голове девочки. «Завтра, как только он сядет за стол, — думала она, — я возьму большой нож, воткну ему в сердце и крикну: «Это за Польшу!»
На следующий день полковник Яковлев явился одним из первых. Высокий, крепкий, лет сорока, неотесанный с виду, но весьма самодовольный, он никогда раньше не был принят в светских кругах.
Завтрак начался довольно мрачно. За столом собрались старики и женщины из польских семей; молодые люди были убиты или скрылись. Гости пытались шутить, но это им плохо удавалось. Яковлев, сидя рядом с Елизаветой Федоровной, сначала несколько стеснялся. Но, изрядно выпив, вскоре пришел в веселое настроение, стал рассказывать казарменные анекдоты, острить. А к концу завтрака дошел до такой наглости, что произнес речь, в которой приглашал поляков осушить чашу за здоровье «нашего любимого государя».
Хозяйка не знала, чем занять гостей, когда в гостиной появились девочки соседних помещиков. Их немедленно окружили, спросили, умеют ли они петь и танцевать. Одна из маменек заговорила о талантах своих детей. Сонина гувернантка тоже не пожелала отставать и распорядилась:
— Принеси альбом, который тебе подарил папа, и покажи свои рисунки!
Как, всем этим людям, может быть даже Яковлеву, показать драгоценный альбом со стихами пана Буйницкого?! Но ослушаться гувернантки Соня не посмела; убить полковника Яковлева в воображении было куда легче, чем не подчиниться мисс Смит. Соня принесла альбом. Он пошел по рукам и оказался у полковника.
— Я хочу оставить вам маленькое воспоминание, дорогое дитя, — сказал он с улыбкой, достал из кармана карандаш и начал что-то чертить.
Девочка оторопела, даже не могла произнести ни слова. Отойдя в сторону и молча глотая слезы, она следила за движением красной волосатой руки Яковлева, осквернявшего ее альбом.
Ничего не подозревая, довольный собой, Яковлев обратился к Соне:
— Подойдите, милочка, и посмотрите, что я вам нарисовал.
Еще не зная, что она сделает, Соня направилась к нему. Но только увидела в руках Яковлева страницу с хижиной, любящей парой и двумя сердцами, пронзенными стрелой, как в ярости выхватила альбом из рук полковника, выдернула листок с ненавистным рисунком, разорвала его на мелкие кусочки и бросила на пол, крикнув: «Voila!»[3]
Что было потом, она не помнила. Голова закружилась, в ушах зашумело, в глазах замелькали желтые пятна. Гувернантка, схватив за руку, потащила Соню из гостиной и заперла в детской. Но польские дамы украдкой приходили ее навещать и приносили лакомства с обеда. Отец же счел не лишним предложить Яковлеву партию в карты и дал ему выиграть несколько сот рублей…
«КАК ПОСТРАДАТЬ ЗА ЛЮДЕЙ?»
После случившегося Малевич уже не говорил о Польше с Соней, мисс Смит еще суровее удаляла ее от сестры. Да и сестра, взрослая девушка, не проявляла особого интереса к угловатому подростку, за чьей спиной всегда высилась несгибаемая фигура гувернантки.
А Соне так хотелось товарища!
И вдруг пришло письмо, что в Палибино приедет жена умершего двоюродного брата отца — тетя Маня и привезет сына Мишеля, который был года на полтора старше своей палибинской кузины.
В назначенный день Соня простояла несколько часов у окна угловой комнаты, не спуская глаз с дороги. Наконец наступил вечер. Из открытых окон потянуло теплым ароматом свежего сена и крепким, росистым благоуханием распустившихся роз. Донеслось протяжное мычание коров; над дорогой медленно поднялась желтая, густая пыль. Расплескивая бледный свет, уходило за бор солнце, и, будто подожженный, вспыхнул малиновым пламенем закатный край неба. Отсветы его медленно затухали на шершавых стволах сосен, на нежной — коре берез, таяли в тихой воде пруда. Мимо окон бесшумно пронеслась большая птица; потревоженный крыльями воздух вскинулся свежим ветерком и опал. Наступила та удивительная тишина, какой провожает природа уходящий день.
В комнате совсем стемнело, огонек трубки, изредка вспыхивая, освещал худощавое, смуглое лицо отца и ворот серого халата.
Потягиваясь в кресле, подавляя зевоту, мать сказала;
— Должно быть, они сегодня не приедут.
Соня вздохнула. У нее сжалось сердце. «А вдруг тетя Маня и вовсе раздумает приехать и я не увижу Мишеля?»
Она давно, по письмам тети Мани, признала его недостижимое величие и следовала ему во всем. Мишель построил в саду шалаш и ночевал в нем, — Соня всем надоела просьбами позволить и ей жить в шалаше. Сообщила тетя, что у Мишеля обнаружился талант к рисованию, и прислала в подтверждение акварельную головку его работы. Соне рисунок показался чудом искусства, и она принялась перерисовывать эту головку без конца. Каждое новое увлечение кузена находило в ней восторженный отклик. Ей было так одиноко в родном доме, где жил каждый сам по себе. Как же не ждать необыкновенного кузена!
Когда гости прибыли, Соня впилась глазами в высокого, изрядно упитанного, румяного юношу, одетого в черную бархатную куртку и нанковые панталоны. Соня готова была признать в нем гения, но Василий Васильевич спросил юношу с нескрываемой насмешкой:
— Ну что, перешел в шестой класс?
— Провалился, — после минутного молчания произнес Мишель.
— При твоих-то способностях да провалиться! Когда же ты этак в университет поступишь? — продолжал подтрунивать генерал над племянником.
— А я совсем не поступлю в университет. Я пойду в Академию художеств и буду живописцем, — заявил Мишель.
Тетя Маня спросила, как быть теперь с сыном, и Василий Васильевич раздельно, по слогам произнес:
— Его надо лето поучить толково. Не по-бабьи, как вы его учили дома до сих пор, а вверить попечениям нашего учителя. Иосиф Игнатьевич обладает отличным педагогическим опытом.