Для полного оформления всех бумаг (которое позволило бы заложить даруемое имение и выручить деньги на свадьбу) Александру Пушкину надлежало ненадолго выбраться в вотчину. «На днях отправляюсь я в нижегородскую деревню, дабы вступить во владение оной», — сообщил поэт А. Н. Гончарову, деду невесты, 24 августа (XIV, 109). И спустя неделю, 1 сентября, он выехал за московскую заставу. «Его отсутствие, — писал на следующий день Елизавете Михайловне Хитрово князь П. А. Вяземский, — должно затянуться недели на три»[110].
Времена стояли тревожные: по российским просторам разгуливала Cholera morbus. Впоследствии Пушкин вспоминал:
«Перед моим отъездом В<яземский> показал мне письмо, только что им полученное: ему писали о холере, уже перелетевшей из Астраханской г<убернии> в Саратовскую. — По всему видно было, что она не минует и Нижегородской (о Москве мы ещё не беспокоились). <…>
На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. Бедная ярманка! она бежала как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши!
Воротиться казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохотой» (XII, 309).
Прибыв в Болдино, «дворянин коллежский секретарь Александр Сергеев сын Пушкин» тотчас же призвал к себе крепостного человека П. А. Киреева, в соавторстве с коим и сочинил прошение в Сергачский уездный суд. Поэт ходатайствовал «ввесть его», Пушкина, «во владение» двумястами крепостными «мужска пола с жёнами их и рождёнными от них после 7-й ревизии обоего пола детьми, и совсеми их Семействами, Спренадлежащею на число оных двухсот душ в упомянутом Селце <Кистенёво> Пашенною и не Пашенною землёю, с Лесы, с Сенными покосы, с их крестьянскими Строениями и заведениями с хлебом наличными и в земле посеенных, Со скотом, Птицы и протчими Угодьи, и принадлежностями, что оным душам следует и во владении им состояло».
Заключали бумагу собственноручные строки помещика: «К сему прошению Александр Сергеев сын Пушкин 10-го класса чиновник руку приложил. Прошение сие верю подать, по оному хождение иметь и подлинную запись получить человеку моему Петру Кирееву»[111].
Человек сей действовал умело, напористо, и прошение, поданное в уездный суд, было удовлетворено быстро. Уже 16 сентября Александра Пушкина ввели во владение кистенёвскими крестьянами и отобрали у него соответствующую расписку. Тогда же мужики присягнули новому барину на «должное повиновение и послушание»[112]. Тем самым в деле по существу поставили точку; «огончарованный» поэт вполне уложился в намеченные им в Москве сроки.
В «Истории села Горюхина» провинциальная бюрократическая процедура удостоилась таких слов: «Около трёх недель прошло для меня в хлопотах всякого роду — я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками.
Наконец принял я наследство и был введён во владение отчиной…» (VIII, 129).
Пушкинское присутствие в уезде больше не требовалось. Однако назад, к невесте, он не помчался. Надвигавшаяся с востока, от Волги, холера захватила Нижегородскую губернию. Соседние деревни были уже оцеплены, повсюду на дорогах спешно учреждались карантины. Против своей воли Пушкин почти на три месяца стал узником села Болдина и его ближайших окрестностей. Ограниченный в свободе передвижения поэт оказался в ситуации шестилетней давности. Правда, его вынужденного одиночества на «несносном островке» (XIV, 121) не могла ныне скрасить старушка няня[113].
Но зато рядом с Александром Пушкиным, как и в сельце Михайловском, находилась Ольга Калашникова[114]. (Напомним: годом ранее поэт, некогда избавившийся от беременной крестьянки, всё-таки не забыл внести её имя в свой «Дон-Жуанский список»[115].)
Теперь ей было 25 лет.
Они свиделись и как-то объяснились в сентябре, вскоре после приезда поэта в Болдино. По всей вероятности, тогда же Пушкин узнал о судьбе сына. Возможно, Ольга проводила стареющего, уже помышляющего об отцовстве барина к могиле их ребёнка, умершего ровно четыре года назад; по дороге что-то рассказала о рождении и смерти «малютки». Поэтическим следствием этой пронзительной прогулки à deux[116] стало «одно из самых грустных стихотворений»[117] Александра Пушкина — «Румяный критик мой, насмешник толстопузый…».
Оно не печаталось при жизни автора; датируется 1–10 октября 1830 года[118] и содержит в себе унылую картину деревенской «дождливой осени». Участников описанного поэтом действа при некотором желании можно идентифицировать: это приближающиеся к болдинской Успенской церкви властный Михайло Иванов Калашников[119], Ольга и её мать Васса (Василиса), а также упоминавшийся ранее болдинский священник Иоанн Матвеев с поповичем:
…На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несёт подмышкой гроб ребёнка
И кличет издали ленивого попёнка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил,
Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил (III, 236).
Имело ли свидание поэта с Ольгой Калашниковой продолжение, и если продолжение всё-таки было, то какое именно, — вопросы сложные и, по правде говоря, щекотливые. «Как они встретились или встречались в Болдине в эту осень, знаменитую в творчестве Пушкина? Этот вопрос я оставляю без ответа и даже не рискую строить какие-либо предположения», — благоразумно перестраховался в своё время П. Е. Щёголев[120]. Учёного можно понять: ведь документов или обкуренных и проколотых в карантинах писем с однозначными подсказками не существует.
И поиски ответов (или хотя бы намёков на оные) настырному биографу приходится вести в творческих материалах Александра Пушкина. Там, в черновых и беловых рукописях, есть пища для размышлений и интуиций.
«Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать, — признавался поэт П. А. Плетнёву 9 сентября, в самом начале болдинского сидения. — Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает… <…> Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верьхом сколько душе угодно, [сиди<?>] пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов» (XIV, 112).
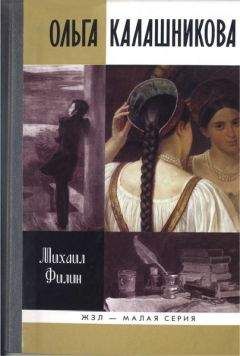


![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/31634/31634.jpg)

