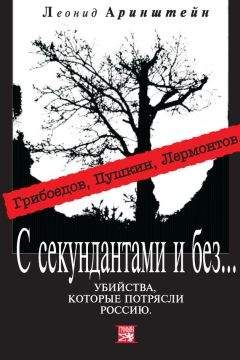Фризенгоф говорит о последовательных ответах Александры Николаевны на поставленные вопросы, достаточно перечитать последние слова этой фразы. Но даже если Фризенгоф и пытается действительно последовательно передать преддуэльные события, то можно ли его изложение воспринимать как некую математическую формулу, как таблицу истинного развития событий? Другими словами, можно ли выводить уравнение из столь «нечистого опыта», как говорят о научном эксперименте.
Напомню, что Густав Фризенгоф женился на Александре Николаевне Гончаровой в 1852 году, то есть через пятнадцать лет после трагической дуэли. Письмо Александре Араповой написано в 1887 году, то есть через пятьдесят (!) лет, человеком, знающим подробности со слов жены. Историю он и восстанавливает, правильно излагая факты, а Александра Николаевна, перечитав письмо мужа, с фактами соглашается. И уж если какая-то хронология не соблюдена, то не заставлять же восьмидесятилетнего старика все переписывать. Сведения не для печати, это оговорено.
Арапова получает подтверждение того, что ей доверенно говорила Констанция, видимо, это для нее и было наиболее важным.
Думаю, логично представить и другое: во всем письме Фризенгофа факт свидания у Полетики — единственнаяновость, остальное широкоизвестно и много раз оговорено. Вероятно, задавая вопросы тетке, Арапова именно этот вопрос ставила, как основной, первым, тогда и ответ должен был быть первым, то есть написан в том порядке, в каком писалось исходное письмо.
Начав пространное послание, барон спохватывается и возвращается к тому главному, чего настойчиво домогается племянница.
Конечно, за истекшие пятьдесят лет много воды утекло, многое перемешалось: и слухи, и факты, трудно разобраться барону. Он общался с Геккерном, имел какие-то объяснения от него, повторяет сплетню о Гагарине, называет князя автором анонимного письма, уверен, что Геккерн уговаривал Наталью Николаевну, имеющую четырех детей, бежать с его сыном в Париж, правда, и здесь уточняет, подчеркивая давность событий: «Александрина… уже не помнит, было ли это сделано устно или письменно».
С. Абрамович пишет: «Материалы, которыми мы располагаем в настоящее время, свидетельствуют прежде всего о том, что никто из людей пушкинского круга не связывал инцидент на квартире у Полетики с последней дуэлью, хотя о нем знали многие».
Сказано категорично, но так ли это?
Если отвести как недостоверное признание самой Натали (Констанции, воспитательнице детей) о свидании (хотя факт свидания подтвердился Александриной) как ороковом, то есть стоившем Пушкину жизни, если допустить, что признания Вяземских и Александрины дату свидания не уточняют, то проследим поведенческие линии других людей, близких к драме. Может, косвенные доказательства окажут нам определенную услугу.
Первой, знавшей о произошедшем, следует считать тетку Загряжскую.
Известно, что в ноябре и декабре Дантес видится с Екатериной по утрам у Загряжской, он перестает посещать дома Карамзиных и Вяземских. Тетка присутствует и на свадьбе старшей племянницы в январе 1837 года.
Думаю, ничем иным, кроме знания о свидании, нельзя объяснить слова Полетики из письма к Екатерине Дантес от 3 октября 1837 года.
«Позавчера я имела счастье обедать с Вашей тетушкой, — со злой иронией признается она подруге, — удивительно, до чего эта женщина меня любит: она просто зубами скрежещет, когда ей надо сказать мне — здравствуйте. Что до меня, то я проявляю к ней полнейшее безразличие, это единственная дань уважения, которую я способна ей принести».
Признание Полетики словно бы перекликается со словами Екатерины, сказанными раньше, в уже приведенном мартовском письме: «Граф (Строганов. — С. Л.) <…> возмущен до бешенства глупым поведением моей тетушки и не сделал ни шага к сближению с ней».
Кстати, отношение Загряжской, не простившей Екатерину и Полетику, не изменилось до конца ее жизни, достаточно поглядеть письма Екатерины к Дмитрию из Франции.
Конечно же, поведение Загряжской еще не устанавливает для нас точную дату свидания, однако ненависть, возникшаяименно после убийства Пушкина, — дальше я приведу письмо Александрины от 24 января 1837 года, подтверждающее этот факт, — противоречит ноябрьской версии.
Думаю, не только откровенность Идалии Полетики с Екатериной, касающаяся поведения тетки, но и слова Пушкина, прочитанные в одном из последних, близких к окончательному тексту черновиков дуэльного письма Геккерну («Вы играли втроем одну роль…», «Наконец Мад[ам] Геккерн…») говорят о посвящении в произошедшее самой Екатерины.
Логично ли это? Мне кажется, да.
Екатерина не только могла знать о свидании, но, вероятно, получила какое-то, устроившее ее, объяснение от Дантеса, идущего на эту встречу или, по крайней мере, вернувшегося с нее. Пушкин мог допустить возможное соучастие Екатерины в этом безобразном поступке.
Думаю, вести о свидании через Вяземских просочились к Тургеневу, об этом говорят неоднократные намеки Александра Ивановича на какое-то тайное знание относительно Пушкиных (и в дневниках, и в записных книжках).
«24 марта. Москва. Отправился к Дмитриеву, за ним послал к Севериной. Прибежал задыхаясь. Разговор о Пушкине».
12 апреля, через неделю после того как Вяземский послал письмо княгине О. А. Долгоруковой, в котором сообщал, что «предмет щекотлив» и что надо-де говорить «об участии других лиц в этой драме», Тургенев спрашивает у него: «Скажешь ли только правду о том, о чем я почти никому не сказывал».
24 февраля Тургенев писал Осиновой в Тригорское:
«Посылаю Вам письмо князя Вяземского Булгакову, не получив полного моего прежнего письма, жаловался ему на половину моего отчета о последних днях поэта. Как бы многое хотелось мне поведать отсюда, но, вопреки пословице, бумага не все терпит».
Вероятно, можно допустить, что о свидании знала Евпраксия Николаевна Вревская, видевшая Пушкина накануне дуэли. Тот же Александр Иванович Тургенев пишет своему брату Николаю Ивановичу 28 февраля 1837 года письмо.
«Теперь узнаем, что Пушкин накануне открылся одной даме, дочери той Осиповой, у коей я был в Тригорском, что он будет драться. Она не умела или не могла помешать, и теперь упрек жены, которая узнала об этом, на них падет».
Конечно, в письме говорится о дуэли, а не о встрече у Полетики, однако трудно представить, что, «открываясь» приятельнице, Пушкин не стал ей объяснять причины, вынуждавшие его поступить так.
И еще одно свидетельство, письмо от 24 февраля 1837 года Осиповой: