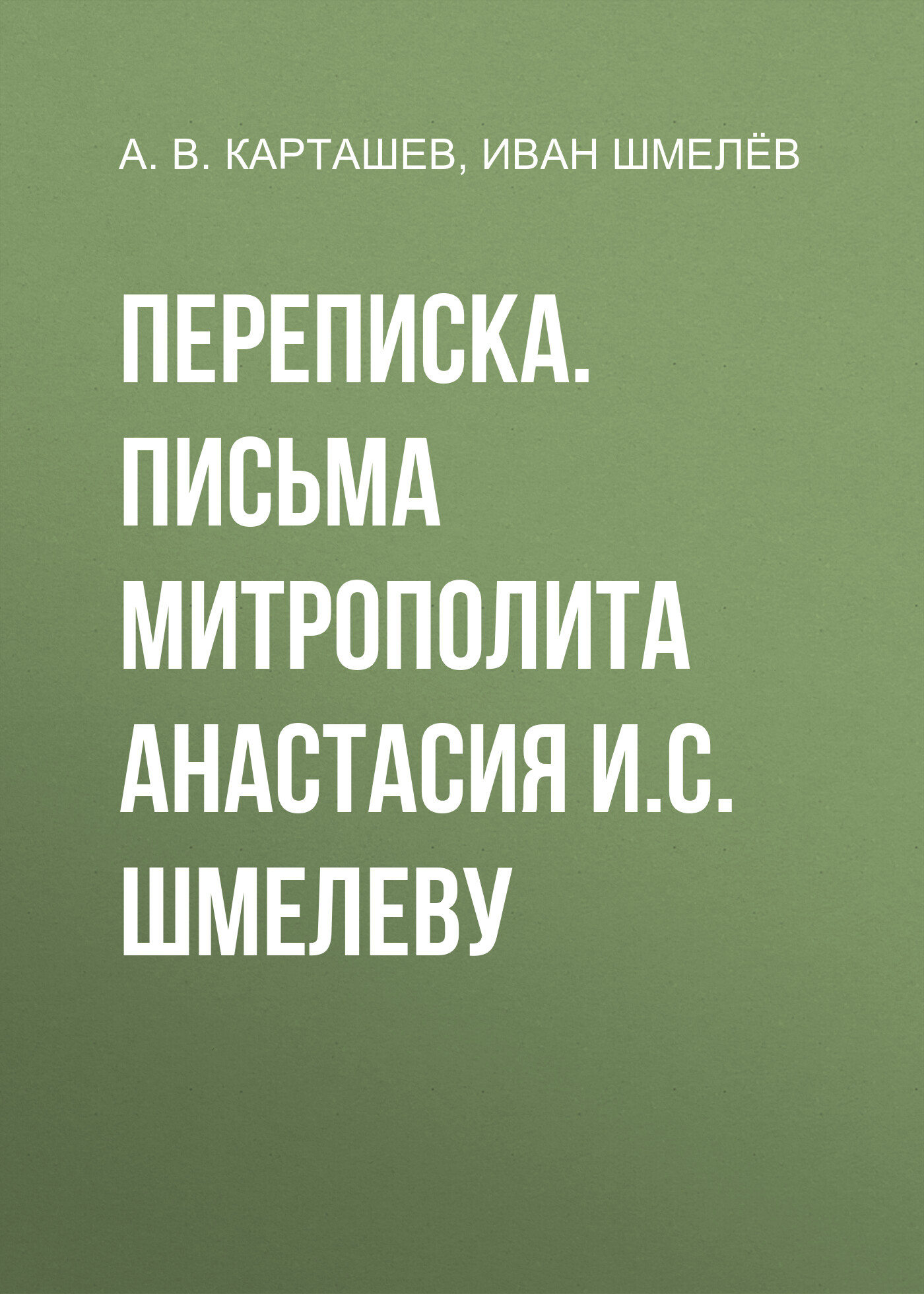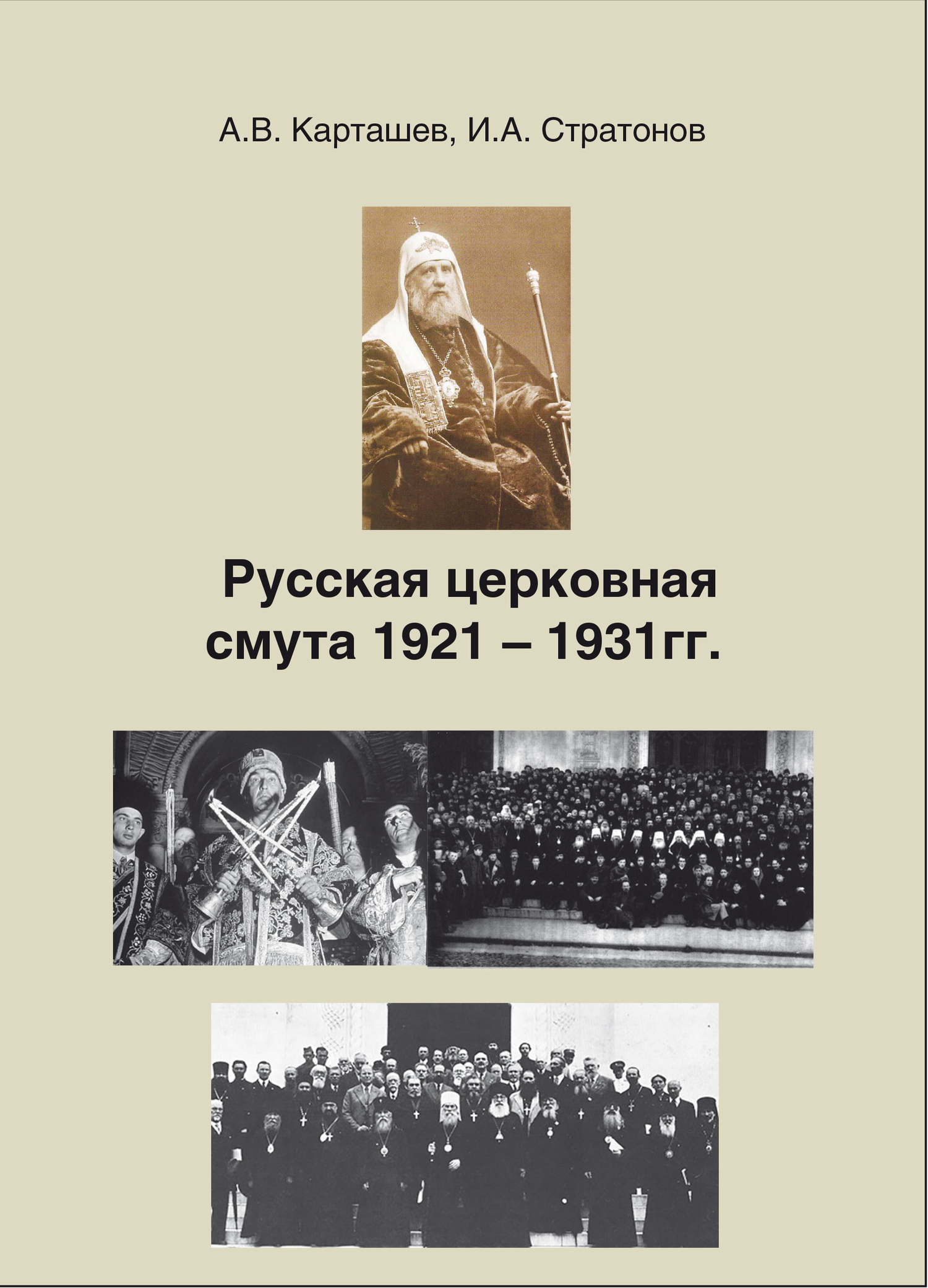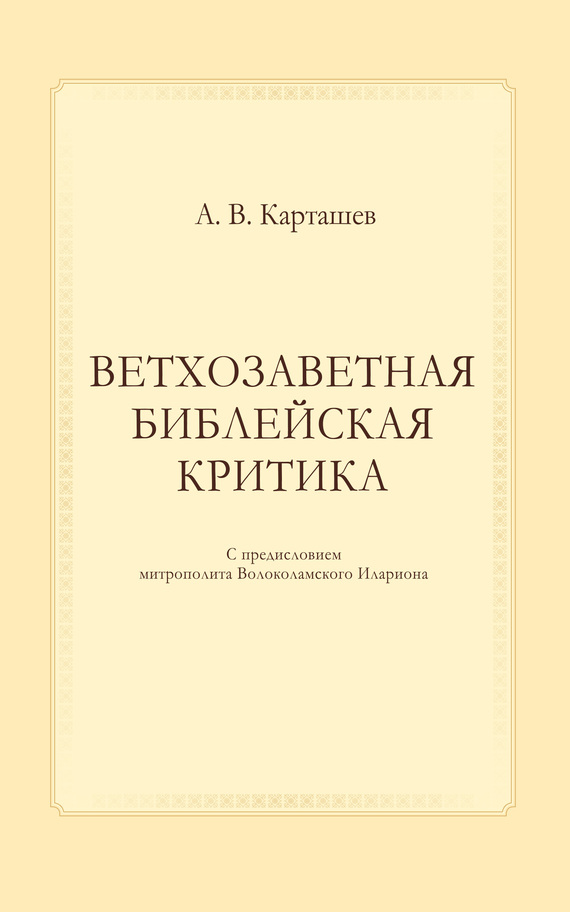в «Руле»).
2) 100 fr. считайте за лист, передам немедленно для Сергиева подворья 42. Ив. Шмелев.
Дорогие друзья и милые русские люди,
Павла Полиевктовна и Антон Владимирович,
С тоской отрываемся от тихой и простецкой жизни-жития в здешних пустынях лесных и 1-го числа едем в Paris. Погода – золотая, голубая. Т° – 20° в тени. Гри-бо-ов!.. Рыжики, самые-подлинные! Журавли летят вечерами, играют на балалайках будто, высоко-высоко, – углом летят. Здесь извечная «птичья дорога», кругом Пиренеев…
Бог даст – Вы увидите (должны увидеть) эти места. Здесь многое от России…
Все идет, в политике, – прекрасно. Европа окончательно опоганилась. Прекрасно. Истина-Правда все глубже вскрывается. Один «друг человечества» утерся. Скоро очередь и за вторым «петрушкой». Но до чего же измельчились «деятели»! Гнусно. Считаю, что «наша болезнь» уже не требует докторов. Она «на пути к выздоровлению». И вне шумных очагов, здесь, в лесах, где видишь законы естества, ярче чувствуется, что Россия идет… Верю. Этому процессу ни помочь – ни изменить его – не может эмиграция. Она лишь собирать себя должна и готовиться. «Се жених грядет» 43… может быть, нам придется жить здесь еще 3–5 лет, но мы будем в России.
Сердечно обнимаем Вас, дорогие друзья. Кое-что писалось здесь, – мешали вечные мои болезни. Как бы хотелось насильно сложить Вас, запереть в чемодан, привести в Hossegor и выпустить на песок у Соснового леса, у Океана. Рассчитываем вернуться сюда к марту-апрелю. Надо писать «Кошкин дом» 44! Ваши душой и сердцем Иван и Ольга Шмелевы.
25 дек./7 янв. 1925 г.
Обнимаем Вас, дорогие друзья,
Павла Полиевктовна и Антон Владимирович, в этот светлый день нашего русского Рождества! Да вернутся, в светлых воспоминаниях, Святки Ваши! А за ними да придут и подлинные – Святые Дни Рождества России! Крепко Ваши Шмелевы.
А день сегодня ясный-ясный, – и если глядишь в небо – на миг покажется, что это наш декабрь – Рождество.
3 февр./21 янв. 1925.
12, rue Chevert, Paris, VII-e
Дорогой и глубокочтимый Антон Владимирович,
Боже, Боже! Боюсь, что Вы с укоризной киваете на меня. До сих пор я не нашел сил даже взнос в Комитет сделать, ответить на письмо, по поводу лекций, Вам написать… Но такая душевная расхлябанность – может быть, следствие нервного переутомления. Охоты смотреть на жизнь нет. Я чистосердечно пишу Вам это. Болезнь ли? Не знаю. Я жду не дождусь теплых дней, чтобы бежать из Парижа, которого все равно не вижу, не хочу видеть. У меня всегда это после забот и – перед заботами. И не могу подняться над великой тоской, которая все закрыла. Лишь в работе обманываешь ее, но она и в работе, покрывает мысли. Бывают дни – и вот сейчас они – когда хочешь конца, бесчувствия, камня. Когда – не видишь цели и смысла, и схватываешься, Бога ищешь, сил – ищешь веры, но – нет во мне – в эти минуты – и веры светлой. Маловерье, пустыня в душе моей. Я говорю о личной, духовной вере, о моих целях, как твари Божией – к Богу. Что же до России – я верю – и знаю, что она будет. Но я даже и на нее вздернуть себя не в силах. Для меня и России возрождение – не мое возрождение. Я знаю, что это ересь, что это может быть пройдет, но такая теперь во мне муть и скорбь черная. И делать повседневное дело – тяжко – мне тяжко идти обедать, писать письма, в хлопотах дня вертеться. Оцепенение… Но не эгоизм. Но и физическое что-то. Вот мне нужно глотнуть воздуха, уйти от жизни в тишину, чтобы отыскать себя. И при этом еще жизнь требует, надо зарабатывать на жизнь, которая мне тяжка. Болезнь это во мне? Может быть. И проходит она, когда я обманусь, уйду в обманчивое, рисуемое воображением. И вот, проверяя себя, я вижу, что нет силы писать и говорить слова, слова, ободряющие, слова разбирающие жизнь. Есть еще силы – воображать и жить с воображаемым. Есть невыполненное, – мои литературные планы. Их я должен выполнить. Спешит скучное время во мне. Надо и мне спешить.
Кое-что я успел сделать, но лишь «кое-что». Не мне, конечно, судить, но что-то есть. Надо бόльшее. Я не могу писать «вне жизни». Во всех моих заботах последней полосы – она, жизнь наша. И не могу отмахнуться. И для того, чтобы держать ее в узде, чтобы она не рвала рамки искусства, надо очень собрать и замотать в веревки душу. И всякий раз – уход в жизнь, анализ ее в слове публичном и страстном – рвет эти веревки, и я месяцами должен себя приводить в форму. Вот теперь надо мной висит камень – лекция в Сорбонне за 1000 fr. субсидию годовую. И я – сил не имею. Вы понимаете души жизнь. Вы знаете мою неизживаемую боль, при которой мне все темно. И простите мне, что не в силах составлять лекции по этим ужасным вопросам политики и жизни. Я почти уже не читаю газет, а жевание, чем часто пробавляются людишки из демократических и соц-республиканских, тошнит меня. Для эмиграции теперь уже все ясно. Если еще не ясно, после всего, тогда – мертва почва, камень, и на ней не прорастут семена. Если уже крови не приняла почва, зерна не примет, ибо камень она. Теперь все, все ясно, и уже греет. Теперь нужна поливка.
И вот – нужна Божья роса. Но она, эта роса – стихийно льется, и мы, русские писатели, должны помогать ей. И я ищу и ищу форм этой помощи, прислушиваюсь к своей душе. Горе наше, что негде часто найти место – излиться. Нет журналов, чтобы печатать не кусочками. В частности, о себе скажу: я не могу найти русского издательства для «Солнца мертвых». И оно выйдет раньше в Англии, в Германии и, может быть, Франции, чем на русском языке 45! Мы должны все разрывать на клочки. Я пачку рукописей держу на полке. А надо писать – и пишу – еще бόльшее. И это прибавляется к общей мути и смуте духа. И надо еще обновлять душу, надо заполнить тысячи ее запросов, читать, собирать – для задуманного. А много пробелов. И надо выпрямить дух для «Спаса Черного» 46. И еще надо бегать за франками, интересоваться издательствами, писать переводчикам, ждать и – знать, что вся эта суета – души