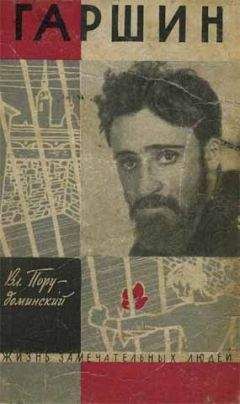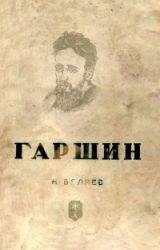Осенью поднялись студенты. Сначала медики, потом Университет и Технологический, наконец Горный и Лесной институты. Помощник инспектора Горного института назвал вором бедного студента, не сумевшего уплатить за обучение. В буфете собралась сходка. Просили о немногом: зачислить обратно исключенных за неуплату взноса, дать возможность слушателям следить за раздачей стипендий, разрешить студентам пользоваться институтским музеем и библиотекой, «обезопасить от хватанья, тащенья и непущенья тех… которые будут вести переговоры с начальством».
Министр господин Валуев ответил коротко — приказал: «…Гоните всех и запечатайте здание!» Двести с лишним человек исключили, полтораста выслали на родину — с жандармами, по этапу. Выслали виноватых и невиновных, здоровых и больных. Ночью приходили за Володей Латкиным — благо, что он у матери ночевал. Исключенным предложили «изъявить покорность», подать прошения о зачислении в институт.
Гаршин писал: «У них сила, но они и подлостью не брезгуют… Это им нужно было только для того, чтобы выделить самых рьяных, которые, конечно, не подадут прошений».
По ночам, в темноте хватали молодых людей — только за то хватали, что пожелали они добра ближним своим. Сажали, словно воров, в пересыльные тюрьмы. Голодных, замерзших гнали по этапу. Выдав каждому по пятнадцать копеек серебром, бросали на произвол судьбы в незнакомых городах. Всеволод и вспоминать не хотел, как кричал против демонстраций, как убеждал друзей: «Не поможет». Товарищи в беде, люди страдают! Толку-то, что сам он оказался в «тихих»!.. Разве нужна ему судьба, отличная от иных судеб?
Гаршин писал: «В Горном институте оставаться мне теперь решительно невозможно… За все, что покажется Трепову и К0 предосудительным, нас перехватают и уж не пошлют домой, а прямо засадят в шлиссельбургские, петропавловские и кронштадтские казематы». У Всеволода голова пылала. Подлость, ложь, насилие…
Хотелось бежать по улицам, барабанить кулаками в двери, трясти прохожих за ворот: «Да взгляните же, что творится!» Но двери оставались запертыми, а над крахмальными воротничками приделаны были благопристойные, невозмутимые головы, цедившие презрительно: «Сами виноваты». Даже мать, которая некогда, отказавшись от всего, сама помчалась за политическим ссыльным, теперь успокаивала сына пошло и неостроумно: молодежь, дескать, дурачье, — кипит, бурлит, а дело и яйца выеденного не стоит. Всеволод на стены лез от гнева: «Глупость молодежи бледнеет перед колоссальной глупостью и подлостью старцев, убеленных сединами, перед буржуазною подлостью общества, которое говорит: «Что ж, сами виноваты!» Если бы нас стали вешать, то и тогда бы сказали: «Сами виноваты».
Гаршин писал: «Когда я говорю об этом, я не могу удержаться от злобных, судорожных рыданий».
Так началось высшее образование.
Жизнь стремилась потоком, подхватывала, несла. И надо было куда-то идти. И невозможно было остаться на месте — разве только зарывшись в ил или уцепившись за холодную склизкую корягу.
Он ходил на занятия, сдавал экзамены или не сдавал их, если мешала болезнь. Он изучал Дарвина, штудировал «Первобытную культуру» Тейлора. Он слушал лекции Герда в Соляном городке, с Латкиным обсуждал «Исторические письма» Лаврова, с Малышевым ходил на выставки (Миша стал уже настоящим художником), снимал комнату вместе с Васей Афанасьевым и был поверенным его немудреных юношеских тайн. Не изменяя опере, он зачастил в Александринку: молодая актриса Савина всех сводила с ума. Каждый рубль казался ему богатством. Он бегал по урокам, когда удавалось достать их; подчас давал уроки не за деньги — «за стол». Полторы недели довелось ему учить математике юного князя Кочубея. Почтенный слуга по мраморным лестницам отводил его в кабинет, где изысканный красавец мальчик лениво играл с собакой, дожидаясь репетитора. Хрусткие кочубеевские ассигнации были не стыдные деньги: Гаршин клал их в карман без укоров совести — не то что теплые монетки, которые суетливо отсчитывал ему в ладонь отец другого ученика, обремененный огромным семейством портовый служака.
События спешили, набегали одно на другое, радовали и огорчали, оставляли следы на душе. Это называлось обыденной жизнью.
Так жить было нельзя. Он не имел права разделить жизнь на семестры и жить для себя. Он хотел счастья другим. Теперь все другие объединились в нечто огромное, сильное, нужное, то, что называлось народ.
Он приходил в аудиторию и вдруг замечал — стала просторней скамья. Кого-то, кто сидел с ним рядом вчера, вышвырнули из института. Он спрашивал: «За что?» — «За народное дело!» И пока Тейлор вел его в увлекательное путешествие по тысячелетней истории культуры, сверстники, звеня кандалами, шли по этапу, и редкие встречные снимали шапку, крестились и долго глядели вслед колонне, покачивали головами и говорили: «За народ страдают».
В Петербурге гастролировала мадам Жюдик — он четыре часа подряд до слез хохотал в «Буффе», забывался. Тем страшнее было возвращаться по темным мокрым улицам, думать, что в Париже не только мадам Жюдик, но и те, «кого расстреливали у стены на кладбище Пер-Лашез, и маршал Мак-Магон, человек с темным прошлым и кровавым настоящим; что в хвастающей свободами Англии безжалостно расправляются со стачками; что по Пруссии гордо вышагивают солдаты железного канцлера с такими же острыми, как у канцлера, усами; что в России, в Европе и всюду народ притесняют, тащат, и не пущают, и на всякий случай держат еще за пазухой тяжелый камень войны.
Так жить было нельзя — душно, мрачно. Надо было куда-то идти, что-то делать. Гаршин прятал глаза, повторял: «Умные молчат и мучаются». Он говорил неправду. Сам он не мог молчать. Он писал…
«О РАНАМИ ПОКРЫТЫЙ БОГАТЫРЬ!»
Стопа чистой бумаги на столе. На верхнем листе ни строчки, ни буковки. Кажется, схвати сейчас перо — и стихи свободно потекут. Не надо! Не надо! Всеволод знал уже горькие минуты похмелья. Шутил: «стихи ложатся в огромном количестве на бумагу, а после вместе с бумагой кладутся в печь». Много ли из рожденных им творений он оставил в живых? Одно? Два? Да и кому бы понадобились эти версты строк — стишки, маброски в прозе? Кому они помогут? Помирающему с голоду мужику? Интеллигентному юноше, который ищет пути и на каждом шагу ступает в грязь? Милой уездной барышне, для которой будущее замужество глубокая темная яма? Ученому человеку, тратящему знания и труд, чтобы набивать мошну неучу?
Не писать? Но если невозможно молчать? Если душа болит от жалости к людям? Если угнетение, несправедливость язвят сердце? Если все в тебе кричит? Кусать кулаки — и молчать? Смотреть, как другие страдают, как другие борются со страданием — и молчать? Нет, будь как будет!..