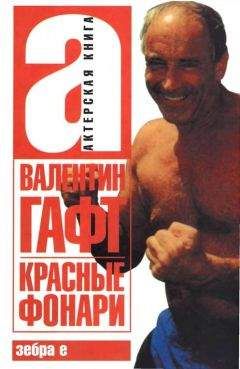— Тебе место определили? — спросил он на ходу.
— Да.
— Если хочешь — давай со мной за одни столик…
— Как это? — спросил я, еще не искушенный в делах настоящего театра.
— У меня два ящика, в одном сложишь свои причиндалы — грим, вазелин, полотенце… Сидеть-то будем, гримироваться, за разными, ты, как я понял, драматический? На наших спектаклях балетных нет, так что столиков на всех хватит, но в других спектаклях, когда оперетта, — все тумбочки заняты…
Он неожиданно и заразительно рассмеялся:
— После их спектаклей окна открываю — проветрить: молодые жеребцы… Потливые и вонливые…
В коридоре первого этажа, на лестнице, и, идя по второму в самый конец, где была его гримерная, я успел рассмотреть Степана Денисова. Он выглядел много моложе своих лет, своих тридцати пяти — парнишка, худой, невысокого роста, хорошо сложенный, легкий в движениях, чуть косолапый, но верткий. Глаза очень крупные для его небольшого лица, навыкате, грустные даже тогда, когда он смеялся. Они словно не умели щуриться в смехе. Нос курносый, почти женский — ладный и опрятный, и большой некрасивый рот — за такие рты в детстве дразнят «лягушками». Зубы не очень ровные, «пилой», но белые-белые, что скрадывало все недостатки широкого рта. Улыбка была открытой и доброй. Волосы густые и волнистые. Таким волосам смертельно завидуют женщины, считая, что мужчинам такая роскошь ни к чему, ибо мужчина — мало не черт, уже красавец! Так, кажется, определил нас Гоголь. Цвет волос я так и не смог выяснить, потому что в коридорах нашего храма искусства было сумрачно, как в тропическом лесу — дирекция театра экономила электричество, вворачивая в коридорах лампочки времен гражданской войны и разрухи.
В гримерной было еще сумрачнее, света вообще не было, а тяжелые шторы от потолка до полу задернуты. Денисов распахнул шторы, и солнечный день, прорвавшись сквозь запыленные окна, осветил гримерную, превратив ее из темного сарая в хорошую рабочую комнату.
Она была просторна, квадратна и толстый ковер на полу даже создавал некоторый уют.
Глаза быстро привыкли к солнечному свету, хотя и яркому, да все же осеннему, я разглядел столик, выдвинул предложенный мне ящик и оглянулся на Степана. И не смог сдержаться — громко ойкнул, запоздало зажав рот рукой.
Волосы у Степана были седые.
Серебряные волосы на голове мальчишки. Густые, волнистые, казалось, еще ни один не выпал. Но седые.
Он засмеялся, растянув свою пасть и, сверкая неровными ярко-белыми зубами, проговорил:
— Первый раз — все так! Потом привыкают…
Мы не успели поговорить, успели только понять, что понравились друг другу, как в гримерную вошел дымящийся паром, возбужденный индейскими плясками Александр Хорст, облапил маленького Денисова, расцеловал в обе щеки и стал рассматривать, улыбаясь. Я понял, что они дружат.
Хорст, знаменитый рыболов города, не мог отказать себе в удовольствии похвастать очередным уловом:
— Вечером спектакля нет, так что давай ко мне, Уха обжирательная. Хвастать не буду, не люблю. Сам увидишь, каких красавцев надергал. Я же не трепач-охотник, я правдив, как рыбак, это все в городе знают…
Степан поглядывал на меня, будто подсказывал что-то Саше, и тот, не отпуская Денисова, повернулся ко мне:
— Не брезгуешь отведать моей ушицы? А, Андрей?
— Неудобно как-то… — но я не скрывал своего радостного согласия.
— Это там у вас в Москве неудобно… Ну, ждите меня, мигом душ схвачу, и ко мне…
Согласие мое не удивило их, позже я понял, что отношения в маленьких городах и театрах еще сохранили легкость знакомства и непринужденность. Если человек нравился, его принимали сразу, и нужно было быть плохим человеком, чтобы разрушить доброе к себе отношение. Если же не принимали, почти всегда это оставалось неизменным, хоть ты из кожи лезь, и чаще всего человеку приходилось уходить из театра, причем это ни в коей мере не было результатом интриг — просто такого человека не замечали, и он засыхал от одиночества в человеческом муравейнике, коим является театр.
Жену, танцовщицу из балетной труппы, Хорст отправил домой загодя, чтобы приготовить все к приходу гостей. «Неожиданных гостей», — сказал я, но Денисов поправил: «Неожиданных гостей у Хорста не бывает, он каждый день выдумывает и планирует гостей…»
Как и все в городе, дом его был в десяти минутах ходьбы от театра. День солнечный, чуть прохладный, располагал к неторопливой беседе. Трое, переговариваясь, знакомясь, шли по улице, ползущей чуть заметно вверх вокруг увала, прикрывающего мощное здание театра от назойливых взглядов пассажиров, едущих в электропоездах. Впрочем, такие увалы скрывали и весь город, и вновь приезжающий с вокзала видел только редко растущие сосны на не крутых склонах и бывал поражен, как только автобус, сделав петлю вокруг одного из увалов, спускался вниз сразу в Город — как в сказке город был виден сразу и весь — он лежал в глубоком распадке.
Саша Хорст был веселым человеком, во рту у него чисто сверкал золотой зуб. Перед выходом на сцену Саша смачивал зуб лаком и замазывал белым тоном, и зуб не сверкал. А в жизни он был неотъемлемым его знаком — хмурым Сашу мало кто видел.
Мимоходом включая меня в свой разговор, так, чтобы новичок не чувствовал себя лишним, они говорили о своих делах.
Хорст подробно рассказывал о своих летних приключениях и успевал расспрашивать Денисова о его вертолетах. Я понял, в чем дело.
Но не все понял.
Денисов был летчиком запаса, летчиком-истребителем в прошлом, а в этом году проходил курсы переподготовки на вертолетчика, так как не мог летать на современных истребителях, а его самолетов не осталось и в помине. Это я понял, но никак не мог сообразить, вычислить, когда же Денисов стал летчиком, когда учился в институте, когда начал работать в театре, если ему только тридцать пять лет?
Включаясь в разговор, я называл Хорста индейцем, потом усложнил и назвал его «оджибвеем». Прозвище «Индеец» позже пристало к нему, но я продолжал звать его оджибвеем — звучало таинственно, и нравилось ему больше. Не могу ручаться, но, кажется, слово «оджибвей» Саша Хорст слышал первый раз в жизни.
В их разговоре мелькали еще малоизвестные мне имена, совсем неизвестные события, но, чем больше я их слушал, тем уютнее мне становилось в этом городе — он заселялся живыми людьми с их веселыми или грустными делами, дома начинали обретать свою индивидуальность, потому что в каждом из них жил кто-то из театра, была какая-нибудь свадьба, встреча Нового года, дня рождения. Спектакли театра, выписанные на сводной афише, оживали, становились многоликими, я узнавал их внутреннюю жизнь, узнавал трудности создания, интриги, успехи, провалы. Я протягивал ниточки памяти все дальше и дальше во внутреннюю жизнь этого небольшого города, и они связывали меня с ним, делали, если не своим, то уже не чужаком, вломившимся в сложные его дела.