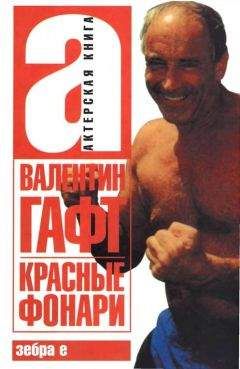— Иди, Володя, скоро автобус подадут… — и она отвернулась к зеркалу…
Обычный говор в автобусах после выездных спектаклей, когда идет состязание в анекдотах, забавных историях и сногсшибательных приключениях, — в этот раз даже не возник. В полном молчании железная коробка по неровной дороге ночью везла актеров домой. Везла актеров, уставших и измученных, — сегодня устали все!
Эту ночь Медведев плохо спал.
Не зажигая света, вставал, натыкаясь на мебель, закуривал и подолгу стоял у окна.
«Как нелепо, как глупо все в этой жизни!» — думал он, но что глупо и нелепо в этой жизни, он не мог объяснить себе.
С утра он кое-как доделал то, что откладывал на последний день перед отъездом — сдал книги в библиотеку, перетащил к своему приятелю обещанные два стула и кастрюлю и пошел в театр.
Завтра утром он уедет из этого города навсегда, именно — навсегда, — сегодня он должен проститься с ней, хотя бы увидеть…
Он шел к театру, бессознательно твердя ее имя.
Волнение, доселе незнакомое ему, охватывало его и, входя в театр, он знал, что она там. Он никого не встретил, ни с кем не говорил, никого не расспрашивал, но он знал, что она в театре. Она должна быть в театре. Она обязана быть в театре.
Постояв в пустом коридоре, будто прислушиваясь к себе, он вдруг стремительно пошел к фойе. Зачем? Он не смог бы ответить на этот вопрос. Что-то вело его.
Она была там.
Фойе, гулкое и пустое, приютило только ее. Да и во всем театре никого не было — так казалось Владимиру. Она сидела на банкетке с вытертым плюшем, поставив на колени сумочку.
Он подошел. Встал напротив нее. Она сидела не поднимая головы, хотя он стоял так близко, что она могла видеть носки его ботинок.
— Вы ждали меня? — неожиданно спросил он, еще мгновение назад уверенный, что обратится к ней на «ты» и назовет ее таким красивым именем — Светлана.
Она подняла к нему лицо, улыбнулась, провела по своим волосам рукой.
«Так же, как на спектакле, когда распускала волосы…» — подумал Владимир.
Она поднялась и сказала ему:
— Нет. Я никого не ждала.
И ушла своей легкой походкой. В этом не было кокетства, не было приглашения следовать за нею, она сказала то, что хотела, и сделала то, что хотела — ушла.
Медведев растерялся. Ему стало одиноко и больно, словно его публично унизили. Он порвал все нити, связывающие его с этим городом, с его людьми, и вот рвалось что-то новое, что возникло в этом городе и что он должен, как драгоценную память, увезти с собой, какое-то открытие, приобретение, что-то очень серьезное для его будущей жизни, но все рвалось — все уже оборвалось, разрушилось!
Оставшийся после нее запах духов раздражал его, все раздражало — и то, что он торчит в пустом и мрачном фойе, и то, что не знает, куда ему бежать, и то, что не может понять, почему она ушла и куда она ушла…
Только на улице он немного пришел в себя и огляделся — может, она где-то здесь, вблизи театра?!
Площадь и прилегающие улицы были пусты, как и фойе театра, — безлюдный день!
Медведев ходил по приятелям, прощался, нигде не задерживаясь, ссылаясь на уйму предотъездных дел, уходя от одних — спешил к другим, — только бы не остаться одному, только бы чем-нибудь заполнить эту гулкую пустоту, что гудит в его голове.
Когда стало смеркаться, он пришел к ее дому.
К ее окнам на втором этаже — он даже не мог вспомнить, когда и как он узнал, что это е е окна!
Окна не светились, значит, хозяев не было дома. Ну, что ж, он дождется, сколько бы ни пришлось ждать, он не может уйти от ее дома… Он увидит ее, когда они придут домой, неважно, что придут «они» — увидит он только ее. Для него это стало важным, необходимым — стало наваждением — увидеть ее, когда они будут подходить к дому, а потом — в окне.
Увидеть ее!
Это был приказ свыше, ослушаться которого он не мог, — ты должен увидеть ее и тогда…
Что тогда? Что-то решится? Но что? Кем решится?
Все эти вопросы были одним — огромным вопросом, даже не сформулированным, а как бы завладевшим всем его существом и лишившим воли.
Его поезд отходил в шесть сорок пять утра и другого в течение дня не было.
В пять утра он пришел к своему дому. Свет в ее окне так и не загорелся, значит, хозяева не ночевали дома, загостевались.
Он был разбит, измучен, опустошен. От выкуренных сигарет во рту осел горький, казалось, неистребимый осадок.
Перед своей дверью он остановился. В щель, рядом с замком, был вставлен аккуратно сложенный листок.
Он вырвал его резко, чуть не располосовав, быстро развернул:
«Вот и не смогли проститься… Жаль…»
Подписи не было.