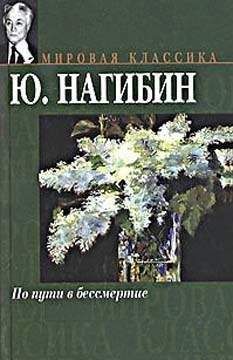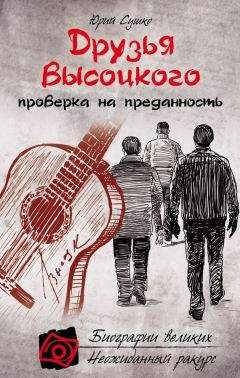Но все это потом, а тогда, в те неправдоподобно далекие годы, была своя жизнь, какая-никакая, а была. И порой она казалась нам прекрасной. Саша обладал удивительным даром создавать из всего праздник. Качество, начисто отсутствующее у меня и потому особенно мною ценимое. Я умел или запойно работать, или вусмерть гулять. Я говорю о той поре, когда изживалась сильно затянувшаяся юность. До войны для меня главным был спорт, к исходу пятидесятых появилось два мощных увлечения: охота и рыбалка. А вот после войны до мартовской встряски пятьдесят третьего я умел лишь менять рабочий стол на пиршественный. В свободное время запойно читал и порой вовсе забывал, что происходит за окнами. И тогда возникал Саша с каким-нибудь простым, но ошарашивающим меня предложением.
Звонок.
— Юрушка, ты когда последний раз был в бане?
— В поезде-бане с вошебойкой я был в октябре сорок второго, в Малой Вишере.
— Нет, в настоящей бане. В Сандунах или Центральных.
— В Сандунах я сроду не был, а в Центральных — когда мне было шесть лет. В женском отделении, с мамой и Вероней.
— Я приглашаю тебя в мужское отделение. Пойдем в Центральные, там хороший бассейн. Ты паришься?
— Нет.
— Ладно. Обойдемся без парилки. С нами будет мой старый друг. Смешной и милый парень. Не возражаешь?
Мы встретились у главного входа в бани. Саша разговаривал с грузноватым и рыхловатым человеком, приметно старше нас, с шапкой курчавых волос, большим лицом и редкими, неровными зубами. Последнее сразу бросилось в глаза, потому что человек этот все время смеялся, картинно смеялся, на публику, что мне резко не понравилось. Мог ли я думать, что Саша делает мне свой лучший подарок: этот заливающийся показным хохотом человек станет одним из самых дорогих мои друзей и неизбывной болью, когда уйдет до срока.
— Драгунский! — гаркнул курчавый озорник, объявив свое имя не только мне, но и всему Театральному проезду.
— Как, неужели вы обо мне не слышали? — удивился он моей слишком спокойной реакции на столь шумное имя. — Я самый знаменитый московский бродяга.
— Ладно тебе, — улыбнулся Саша, — есть и познаменитей.
— Это кто же? — вскинулся тот. — Скажи в любой компании: Виктор, и сразу добавят: Драгунский.
— А правда, что каждый Виктор мнит себя Гюго? — спросил я.
— Не больше, чем каждый Вальтер — Скоттом, — немедленно отпарировал он. — Не поймаете. Это старая шутка Хлебникова.
— «Но дней минувших анекдоты!..» — с пафосом продекламировал Саша.
— «От Ромула до наших дней хранил он в памяти своей», — подхватил Драгунский.
— Чем он занимается? — спросил я Сашу, когда Драгунский отошел купить билеты..
— Актер. Работал в «Сатире». Сейчас в цирке. Коверным. И вроде бы снимается у Ромма.
Потом я высчитал, что как раз в эту пору Драгунский задумал свою «Синюю птичку», неожиданную и необыкновенно талантливую поначалу, когда она была капустником, и неуклонно тускнеющую с получением официального статуса театра. Пока Драгунский просто резвился, реализуя свои многочисленные таланты: драматурга, режиссера и актера, его спектакли напоминали, по выражению Олеши, кипящий суп. А потом к нему протянулись щупальца Главреперткома, всевозможных инстанций, управлений, а против этого бессилен любой талант. Теперь требовалось тупое и однообразное разоблачение маршала Тито, бенилюксов и плана Маршалла — очарование ушло. Но довольно долго «Синяя птичка» была единственным ярким пятном на серости будней.
Драгунский без умолку говорил. Мне запомнилась грустная история циркача на призывном пункте. Когда его спросили, какая у него воинская специальность, циркач ответил: движущаяся мишень.
Мы еще не знали, что каждому из нас в какой-то период жизни можно будет так же определить свою не воинскую, а гражданскую специальность. Но в полной мере движущейся мишенью окажется Саша. По нему гвоздили из всех калибров за песни, расстреляли — до взлета — его лучшие сценарии и, наконец, дружным залпом прикончили человека с гитарой.
В бане мне был преподан урок, как надо наслаждаться жизнью. В первый и в последний раз воспользовался я услугами банщика: костлявого могучего старика в набедренной повязке, с белотрупными руками, железной хваткой и разбойной серьгой в ухе. Он сломал мне все суставы, растоптал мою плоть, потом взбил. Как сливки. Отдышавшись, я узнал благо нагретой простынки и ледяного пива с красными от стыда за человека, бросающего живое в кипяток, хрусткими раками.
Завернувшись в простыню, я выстоял маленькую очередь в парикмахерскую, находившуюся тут же при раздевалке. Я все время боялся, что простыня соскользнет, а бывалые Драгунский и Саша держались со свободным достоинством римских патрициев на форуме, их простыни казались тогами. Помню, бегавшая то и дело к телефону хорошенькая парикмахерша вдруг круто осадила и принялась разглядывать Драгунского и Сашу, морща узкий лобик трудной, ускользающей мыслью.
— Братья? — спросила она радостно.
— Ага! — столь же радостно подтвердил Драгунский.
— Как непохожи! — сказала она с недовольной гримасой.
«Люблю маленькие загадки жизни, — говорил позже Саша. — Ее вопрос мог возникнуть только из ощущения сходства, хотя между нами ничего общего. Что происходило в ее маленьком мозгу, упрятанном под перманент? Мы никогда этого не узнаем. А ведь там творилась сложнейшая работа наблюдения, умозаключений, открытия и внезапного разрушающего прозрения».
— Рассуждения в духе Панурга, — заметил Драгунский. Такое же велеречие и пустота. Давайте лучше выпьем. Пошли «Арагви».
— Если хочешь получить хороший карский, — назидательно сказал Саша, — надо идти не в «Арагви», а в шашлычную рядом с бывшим «Великим немым».
Это было характерно для Саши: он всегда знал, куда над идти, если хочешь, чтоб было хорошо.
За корейкой — нам порекомендовал ее официант — мы вспоминали баню, и тут я с грустью обнаружил, что мы побывали словно бы в разных местах. У них было куда интереснее. Они вспоминали множество подробностей, начисто от меня ускользнувших. Оказывается, там все время происходило что-то занятное, смешное или глупое. В этот цирк вносили свою лепту посетители, банщики, буфетчик, хранитель бассейна, парикмахерши, сантехники. Подобный тип наблюдательности — со стороны — мне начисто чужд. Я бессознательно отбираю из окружающего то, что меня близко касается. А все нейтральное или чуждое моей сути я просто не вижу. Это большой недостаток для пишущего. Угадав мою слабину, оба начали с серьезным видом «вспоминать» все новые невероятные подробности. Оказывается, рядом с нами мылась бородатая женщина, банщик с серьгой был сыном знаменитого налетчика эпохи «военного коммунизма» Леньки Пантелеева — одно лицо! — жулик буфетчик у каждого второго рака оторвал клешню, у парикмахерши, бегавшей к телефону, халат был надет на голое тело, в бассейне ходила полутораметровая щука…