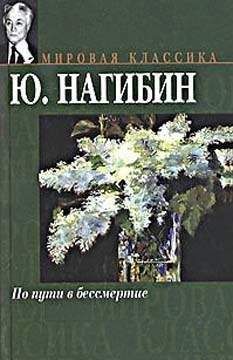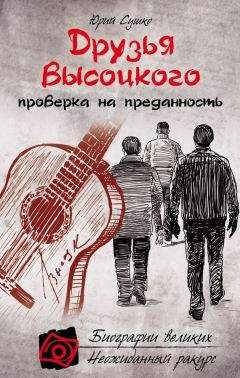Тот блаженный день, начавшийся омовением, пивом и парикмахерской, продолжившийся корейкой, лавашем и «Саперави», имел продолжение. Нам не хотелось разлучаться. И когда официант предложил кофе, Саша решительно сказал:
— Спасибо, дайте счет. Поедем пить чай из самовара с горячими калачами.
— У тебя есть машина времени с задним ходом? — спросил Драгунский.
— Бродяга должен знать свой город. В Парке культуры, на границе с Нескучным садом, в ложбинке схоронилась чайная. Там самовар, горячие калачи с маслом и зернистая икра.
— Схоронилась, говоришь? — ядовитым голосом сказал Драгунский. — Небось на курьих ножках? В кассе — Баба Яга, официантом — Кощей Бессмертный?
— Может, поспорим?..
— Идет! На калач с икрой.
Конечно, он проспорил. Все было, как говорил Саша: самовар, калачи, горячие, сдобные, желтое масло, зернистая икра. Бабы Яги и Кощея Бессмертного не было, но их Саша и не обещал. И вот что странно: не было посетителей. Саша объяснил это тем, что никто не верит в существование такой чайной, и мы завтра перестанем верить, отнесем к похмельным видениям.
Вечер мы завершили в коктейль-холле на улице Горького, «котельной», как прозвала это заведение Галина Шергова. В компании оказался один начинающий писатель, который почему-то требовал, чтобы его называли Никита, хотя у него было другое, тоже красивое имя. Он и ныне здравствует, так и оставшись по прошествии жизни начинающим писателем. Он помнится мне человеком одаренным, умным, острым, внешне привлекательным. У его колыбели присутствовали все наличные феи, одарившие его своим богатством, кроме какой-то одной, довольно захудалой, но, видать, необходимой. У нее самой ничего нет, как у бедной родственницы, но она запускает в ход дары своих старших товарок, иначе они бездейственны, как двигатель без горючего. Все дарования Никиты остались вещью в себе, никак не оплодотворив человечество.
Никита придумал игру в неузнавание знакомых. Игра примитивная, но очень смешная. Подходит старый знакомец, дружески вас приветствует, а вы — ноль внимания. Он кланяется снова, делает приветственный жест рукой, вы сидите с каменным лицом, словно поклон относится к кому-то за вашей спиной. Человек сбит с толку, он пытается что-то вам растолковать, волнуется, горячится, вы — сама вежливость и внимание — не понимаете, чего он от вас хочет. Озадаченный, расстроенный и обиженный, человек неловко отходит. Игра занятна реакцией неузнанных. Почти никому не удается выйти с честью из положения; все тратят массу ненужных слов. Сердятся, бывает — ругаются, чуть не плюются, хоть бы один рассмеялся и махнул на шутников рукой. Впрочем, один нашелся — Смирнов-Сокольский. Он внимательно посмотрел на Сашино отчужденное лицо.
— Простите, — сказал он, — я принял вас за своего протезиста.
Саша расхохотался, вскочил, они поцеловались. Эта игра надолго увела от меня Сашу. В тот вечер он поддался змеиному очарованию Никиты, которого знал давно, но как-то не сумел оценить. Никита принадлежал к большой и замечательной семье, обладавшей, кроме достоинств доброты, гостеприимства, расположения к людям, неизъяснимым семейным очарованием, которое каждый из членов семьи сохранял, хотя в разной степени, отрываясь от клана. Я никогда не видел таких умельцев обольщать людей, как эти обитатели дома с мезонином на Сивцевом Вражке. Стоило попасть к ним однажды, окунуться в атмосферу тепла, искренней заинтересованности в твоих заботах и бедах, глубочайшей порядочности, лишенной даже и намека на педантство и ханжество, услышать легкий, музыкальный смех, как ты навсегда становился их пленником. Саша там не бывал, возможно, поэтому проглядел Никиту, который один из всей семьи был с некоторой червоточиной, видимо, отвращавшей Сашу, хотя он едва ли отдавал себе в этом отчет.
У Никиты были все семейные достоинства — и легкий смех, и море обаяния, но иногда его привлекательное лицо корежила гримаса завистливой злобы. Бесплодность несомненного литературного таланта — вот уж: «дар напрасный, дар случайный»! — корежила ему душу, из-под шапки пепельных волос вдруг выстреливал взгляд хорька. Он знал это за собой и, чтобы компенсировать проговоры теневой стороны души, эксплуатировал вовсю родовое очарование. Если хотел, он становился неотразимым. Это было самоутверждением, какого он не мог найти в бегущей его рук литературе. Его главной и злой радостью было разрушать чужие дружбы и любови. Так, он надолго испортил жизнь одному нашему общему другу, отбив у него невесту, когда тот уехал в долгую командировку. Едва разбитое сердце склеилось, Никита равнодушно оставил девушку. Лишь случайно не преуспел он в другой подобной же попытке, но крови людям попортил немало.
Он давно уже открыл нашу общую влюбленность в Сашу и решил обездолить нас скопом. Довольно долго его чары не действовали, что лишь придавало ему охотничьего азарта, и вдруг в «котельной» Саша взял наживку. Ему чего-то недоставало в нашем кружке. Мы были слишком серьезны, не только в том, что заслуживало серьезности, но и в загуле, по-русски безудержном, с угарцем и тьмою. Саше хотелось расслабляться более весело и легко, хотелось игры, бездельничанья с милой или дерзкой выдумкой. «Пленительная лень» была не из нашего обихода. А у Саши порой возникала настоятельная потребность в таком вот безмятежном, солнечном ничегонеделанье. Лентяй, выдумщик, острый собеседник, Никита как-то вдруг «пришелся» ему. В эту пору Саша вышел из безвестности, из подполья домашней признанности, узнал вкус денег, Да и надоело однообразие чуть надрывных аполлоногригорьевских застолий со слезой и битьем себя в грудь. Саша ушел в легкий и разнообразный мир, предложенный ему Никитой. Начав путь вдвоем, они вскоре обросли компанией звонких, прозрачных, легко воспаряющих над землей людей, не таящих под тонким слоем песенного забвения неизбывной русской маеты.
Мне кажется, что в глубине души я так и не простил Сашиного отступничества.
В последующие годы мы встречались куда реже. Ко всему еще обстоятельства моей жизни изменились: мы с женой разошлись, и не стало объединяющего наш круг дома по улице Горького. Дом, разумеется, остался, но соединял он теперь совсем других людей. Наша компания разбрелась.
Порой мы встречались с Сашей за преферансом. Меня втягивала в это дело Аня, не хотевшая окончательного угасания отношений. Я чужд картежного азарта, но тут вдруг почувствовал вкус к «пульке», нежданно явив качества довольно крепкого игрока. За картами открылась еще одна черта Саши, которую он сам называл фатальным невезением. Играя сильнее всех нас, он неизменно проигрывал. Нечто похожее было на бильярде. У Саши был отлично поставленный удар, меткий глаз, он тончайше знал игру, но брал верх куда реже, чем следовало. Что-то ему мешало. Он совсем не умел ненавидеть противника, а без этого выиграть трудно.