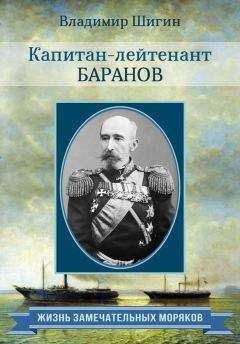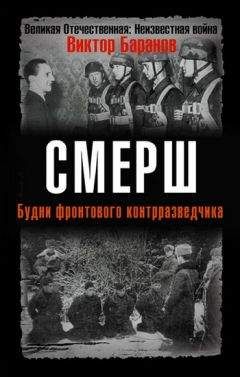Селезнев, грузно ступая, подошел к Кубде.
— Иди, чай поспел. Что на него смотреть, камень и камень. Никакого порядку нету, ему и бог не велел больше расти. Сколько места под пашню пропадат.
Антон зорко взглянул вниз по тропе и слегка тронул Кубдю сапогом.
— Видишь, — сказал он шопотом.
Кубдя не понял:
— Ну?
Селезнев дернул его за руку и тоже быстро лег на живот.
— Да вон, налево-то, мотри.
Голос у Кубди спал.
— Люди!.. На вершине!..
— Поляки, — сказал Селезнев и отполз. — Красные штаны, видишь?
Они на четвереньках проползли несколько шагов, встали и подняли берданки с земли.
— Поляки, — сказал Селезнев плотникам. — Туши…
Беспалый яростно разбросал огонь и начал топтать сапогами угли.
— И чаю не дадут напиться, коловорот им в рот!.. В чернь, что ли, пойдем?
— По-моему в чернь, — сказал Горбулин и поспешно добавил: — Мужики донесли на нас.
Селезнев заложил патроны и пополз обратно.
— Кубдя!.. — позвал он плотника. — Айда-ка, попробуем.
Поляки поднимались медленно, один за другим по тропинке и весело переговаривались. Впереди на низенькой, брюхастой лошаденке ехал староста. За ним, на серой лошади — солдат без винтовки, должно быть офицер. Ветер нетерпеливо чесал гривы лошадям. Офицер часто оглядывался по сторонам и даже привставал в седле. Но мужиков он наверху не замечал.
Антон близко наклонился к Кубде, так что борода его терлась о плечо плотника и, обкусывая фразы, проговорил:
— Ты того… третьего… я уж… офицера…
— А старик-то?
— Старик, зря, он… сильком, должно… Ну?..
— Жалко человека-то… Не привык, я…
— Ну и оставался бы… Ничего нет легче человека… убить…
Селезнев положил ему руку на поясницу и ласково сказал:
— Бери, што ли…
Кубдя на немного изнемог, поднял ружье, прицелился.
— Ну, уж бог с ним, — сказал он и выстрелил.
Как бумажки, сдутые ветром, две лошади и два человека вначале будто подпрыгнули, потом полетели вниз с тропы, кувыркаясь в воздухе. На тропе кто-то пронзительно завизжал. Беспалый выскочил на рамку камня, перегнулся и тоже выстрелил. Поляки медленно пятились, лошади храпели, а мужики, ощелившись, как волки, мокрые, бледные, стреляли и стреляли. Староста погнал лошадь вперед, но она задрожала, забилась и вместе с седоком опрокинулась вниз…
Вечером, действительно, пошел дождь. Мужики разложили большой костер под пихтой и варили щербу из сухой рыбы. Было темно, хвою словно перебирали пальцами, хрустали ветки. Падал гром, затем желтая молния вонзалась в горы и камень гудел.
— Гроза на Федора-летнего, — лениво сказал Селезнев, — плоха уборка хлеба будет.
— А нам-то что? — спросил Горбулин, — нам хлеб не убирать.
Селезнев как-будто с тоской произнес:
— Не придется нам, это верно…
— Верно… — отозвался Соломиных.
Кубдя посмотрел на две темные глыбы мяса — Соломиных и Селезнева — и ему стало как-то не по себе.
— Жалко землю, что ли? — спросил он резко.
— Землю, парень, зря бросать нельзя. Нужно знать, когда ее бросить… твердо сказал Селезнев.
— Ну и любить-то ее больно не за што!
— От бога заказано землю любить.
— Не ври!.. Бог-то в наказанье ее людям дал, — прокричал Беспалый, трудитесь, мол, мать вашу так!
Селезнев упрямо повторил:
— Ты, Беспалый, не ерепенься. Может бог-то и неправильно сказал. А только земля…
— Ну?..
Селезнев взял уголек и закурил.
— У меня, Кубдя, в голове муть…
— Поляков жалко?
— Не-е… Человека — что его, его всегда сделать можно. Человек — пыль. А вот не закреплены мы здесь.
— Кем?
— Хресьянами.
Кубдя озлился, сердито швыркая носом, он наклонился над котелком и помешал ложкой.
— На кой мне шут оно?
— Без этого нельзя.
Кубдя взглянул в его неподвижные, ушедшие в волос глаза и словно подавился.
— Что я поп, что, ли?
— Може больше…
— А иди ты.
— Надо, паре, в сердце жить. Смотреть, понял?
— А что я зря ушел? Граблю я?..
Говорили они медленно, с усилиями. Мозги, не привыкшие к сторонней, не связанной с хозяйством, мысли, слушались плохо и каждая мысль вытаскивалась наружу с болью, с мясом изнутри, как вытаскивают крючок из глотки попавшейся рыбы.
Беспалых в нижнем белье, белый, похожий на спичку с желтенькой головкой, бил в штанах вшей и что-то тихонько насвистывал. Кубдя указал на него рукой и сказал:
— Вот — живет и ничья!.. А ты, Антон Семеныч, мучиешься. От дому-то не легко оторваться тебе.
— Десять домов нажить можно, кабы время будет…
— Ну?..
— А вот не знаю, што…
Селезнев неловко поднялся, словно карабкаясь из тины, и пошел в темноту.
— Куда ты? — спросил его Кубдя.
— А так… вы спите, я приду сейчас.
Соломиных сожалевающе проговорил:
— Смутно мужику-то.
— Не вникну я в него.
— У те душа городская. Не зря ты там года пропадал.
Соломиных достал ложки и начал резать хлеб.
— Теперь к нам народ повалит, — сказал он, стукая ножом по хлебной корке.
— Откуда? — спросил Горбулин.
— Таков обычай. Увидят, что за дело как следует взялись.
Беспалых, натягивая штаны, вставил:
— А по-моему — возьмут берданки, переловят нас да и в город. А у меня, паре, седин и вшей у-у!..
— С перепугу.
— Должно, с перепугу.
В ближайшие дни после избиения поляков, отряд стал пополняться. Ехали, в большинстве из соседних с Улею деревень, боясь мести из города, такие приезжали вместе со скарбом, с женами и ребятами. Но были из дальних деревень почти все солдаты германской войны, они приходили в пешую, с котомками и с берданками, у некоторых были даже винтовки.
Становище перенесли глубже в чернь, к Лудяной горе и здесь разбили палатки. Уже было около полусотни человек.
Встретившись с Кубдей, Селезнев сказал:
— Начальника надо выбирать.
Кубдя словно вытянулся в эти дни, углы рта опустились, а может быть придавал ему другой вид и прицепленный к поясу револьвер, снятый с убитого поляка. Кубдя согласился и на паужен назначили собрание.
Кубдя влез на телегу, мужики сели на траву и закурили. Кубдя хотел говорить стоя, но раздумал и только снял картуз.
Среди пяти-шести телег, накрытых для затина кедровыми лапами, бродил белобрюхий щенок, из тайги пахло смолой и, казалось, приехали мужики на сенокос или на сбор ореха. Позади всех стоял на коленках Беспалых и улыбался маленьким, как наперсток, ртом. Ему было приятно, что теперь они не одни и что с таким уважением слушают все Кубдю. Кубдя говорил: