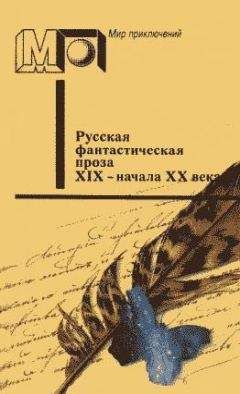Два, много три часа отдыха на голой плите, со словарем вместо подушки, были достаточны для возобновления бодрости к новым, столь же насильственным занятиям, которые прерывались только охотою за бегающим по сырым стенам келий скорпионом, или абу-борейсом, ящерицею невинною, даже красивою, но поселявшею во мне непреодолимое отвращение.
Исчерпав в несколько дней мудрость бедной обители, я отправлялся далее – искать новых впечатлений и разделять с другими отшельниками блюдо варенной в деревянном масле чечевицы. Так провел я шесть или семь месяцев, пока неумеренное напряжение умственных и телесных сил, грубая и нездоровая пища, усталость и лишения всякого рода не остановили моей пылкости опасною болезнью, которая заронила в мою грудь зародыш постоянного страдания – быть может, преждевременной смерти. Усилия мои в изучении местного арабского наречия увенчались успехом, который льстил моему самолюбию: я сознаюсь в этом без ложной скромности, так же смело, как бы сказал, что выучился чисто работать скобелем, если б когда-нибудь занимался столярным делом. Между этим упражнением и наукою языков я усматриваю большое сходство: первое – механическое дело руки, второе – механическое дело органов памяти, жевания и глотания. Но преодоленная трудность всегда делается для нас, даже и в столярном ремесле, источником самодовольства и гордости: я считал себя почти равным Аристотелю, когда аравитяне, которые к своему языку проникнуты настоящим обожанием любовников и новые каламбуры, быть может весьма основательно, ценят так же высоко, как мы – новые мысли, называли меня фейлусуф, философом, за то, что я хорошо произносил их гортанные буквы, или спорили со мною, что я не франк, а должен быть ибн-эль-араб, арабский сын. Мне удалось состряпать десяток дурных арабских стихов, которые имели большой успех в околотке, и слава моя распространилась на несколько смежных гор.
Шейхи (дворяне) маронитов и друзов часто заезжали ко мне выкурить трубку джебели с любопытным франком, который “знает толк”, и осведомиться о политических новостях Европы: здоров ли папа? что делает фагфур, китайский император? и прочая”.
Путешествие Сенковского продолжалось не многим более двух лет, считая со дня отъезда его из Вильно. Он вернулся с богатым запасом сведений по восточной лингвистике, вывез массу ценных наблюдений и немало любопытных памятников старины. Любая карьера была доступна ему, и, между прочим, даже служебная. Еще во время поездки ему удалось получить хорошее место при константинопольской миссии; когда же он вернулся в Россию, то граф Румянцев поспешил определить его переводчиком при коллегии иностранных дел. В 1821 году Сенковский был подвергнут официальному испытанию Академией наук и получил блестящую аттестацию от профессора Френа. В 1822 году его назначили профессором Петербургского университета по кафедре излюбленного им арабского языка. Следующее за этим годом десятилетие посвящено было Сенковским главным образом ученым трудам, говорить о которых мы не будем, так как общего интереса они не имеют; заметим только, что его переводы, издания, лингвистические и грамматические исследования высоко ценились современниками. В 1828 году он был назначен цензором в петербургский цензурный комитет; в том же году он развелся со своей первой женой, а в следующем вступил в брак с дочерью бывшего придворного банкира барона Ралля, Аделаидой Александровной, весьма образованной и милой дамой, как выражается г-н Савельев, малообразованной и отнюдь не милой дамой, как говорит Е. Ахматова.
О Сенковском как профессоре достаточно сказать несколько слов. Он мог читать блестящие лекции – в этом никто не сомневается – и читал их, пока не занялся журналистикой. Потом кафедра наскучила ему, и он целые годы тянул свое профессорское дело лишь ради пенсии. При этих условиях исполнялось оно, конечно, неважно. Покойный Никитенко между прочим зафиксировал в своем дневнике маленькую сценку, в которой рассказывает, как однажды в университетских коридорах он встретил кучку студентов, “возмущенных грубостью Сенковского”. Где и куда делись эти студенты и чем кончилось их “возмущение” – мы не знаем, но эпизод приводим как любопытный. Грубое, презрительное отношение к другим – характерная черта героя нашей биографии. “Маленького роста, джентльменски одетый, в лакированных ботинках, с гордо поднятой головою, с презрительной улыбкой и презрительным взглядом – таков Осип Иванович Сенковский”, – если верить его современнику, видевшему его около этой эпохи.
Но мимо всего этого. Не будем наполнять страницы малоинтересными, ничуть для Сенковского не характерными деталями. Биография такого размера, как наша, по необходимости превращается в характеристику, сам же Сенковский интересен для нас прежде всего как журналист. Заметим только, что в результате упорных ученых занятий появился вполне по-европейски образованный человек, о громадных познаниях которого вот что между прочим говорит Дружинин:
“Во всей современной ему (Сенковскому) русской литературе не находилось человека, который в качествах, необходимых для журналиста, мог бы соперничать с основателем “Библиотеки для чтения”. По высокому, солидному, многостороннему образованию Сенковский мог назваться первым из первых литераторов своего времени. Кроме языков древних и восточных, он знал в совершенстве языки: русский, французский, английский, итальянский и польский; кроме глубоких сведений по отрасли наук, которым преимущественно посвятил он свои занятия в молодости (восточные языки и восточная литература), он имел обширные познания в науках естественных и политических. Читая беспрестанно и владея удивительною памятью, Осип Иванович, когда еще его здоровье допускало “излишество труда”, следил за всеми не только первостепенными, но и второстепенными и третьестепенными явлениями современной науки и словесности. Он мог беседовать с первоклассным медиком и удивлять его своими познаниями в области медицинских наук; первостепенные европейские виртуозы отдавали справедливость его парадоксальным, но глубоким взглядам на сокровенные законы их искусства; экономист, разговаривая с Осипом Ивановичем, видел, что ему знакомы труды всех европейских, особенно английских писателей по части политической экономии. Понятно, что при обладании такими средствами Сенковский мог вести и вел свое периодическое издание несравненно лучше, чем его сверстники вели свои журналы”.
Для характеристики же литературной деятельности Сенковского в это время скажем несколько слов по поводу его “Фантастических путешествий”.
Признаюсь, я лично с величайшим удовольствием перечитал “Фантастические путешествия барона Брамбеуса”. Очевидно, что тема их как нельзя более подошла к таланту автора и он справился с нею легко и свободно. Сенковский в этом своем произведении добился того, о чем мечтает каждый писатель: полной, ничем не стесненной свободы. Он играет своим предметом будто мячиком: то отбросит от себя в сторону, то поймает опять и прижмет к себе крепко-крепко. Иногда на протяжении целых страниц он как будто забывает о теме, рассуждает о том, что пришло в голову, рассуждает бойко, остроумно, потом, точно спохватившись, с улыбкой возвращается к рассказу и продолжает его с прежней легкостью. Мне лично как нельзя более по душе эта независимость ума, эта гибкость игривой фантазии, эта способность быстро переходить от одного настроения к другому. Не буду вызывать великие тени Рабле, Монтеня, Вольтера, чтобы поставить рядом с ними Сенковского и тем польстить ему. Конечно, он много, слишком даже много ниже их, но в нем есть кое-что общее с этими недосягаемыми представителями умственной гибкости, общее по типу, а не по степени. Хотите послушать, как острит барон Брамбеус? Вот, например, его отзыв об иероглифах: “В короткое время я сделал удивительные успехи в чтении этих таинственных письмен; свободно читал надписи на обелисках и пирамидах, объяснял мумии, переводил папирусы, сочинял иероглифические каймы для салфеток и даже сам открыл половину одной египетской дотоле неизвестной буквы, за что покойный Шампольон обещал доставить мне бессмертие, упомянув обо мне в выноске к своему сочинению. Правда, г-н Гульянов оспаривал основательность нашей системы и предлагал другой, им самим придуманный способ чтения иероглифов, по которому смысл данного текста выходит совершенно противный тому, какой получается, читая его по Шампольону, но это не должно никого приводить в смущение, и спор двух ученых мужей я могу решить одним словом: метода, предначертанная Шампольоном, так умна и замысловата, что ежели египетские жрецы в самом деле были так мудры, как изображают их древние, они не могли и не должны были читать своих иероглифов иначе как по нашей методе; изобретенная же г-ном Гульяновым иероглифическая азбука так нехитра, что если где – и когда-либо была она в употреблении, то разве у египетских дьячков и пономарей, с которыми мы не хотим иметь дела. Суть же нашей системы сводится к тому, что всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, изображающая то или другое понятие, или ни буква, ни фигура, а только произвольное украшение почерка. Итак, нет ничего легче, как читать иероглифы: где не выходит смысла по буквам, там должно толковать их метафорически; если нельзя подобрать метафоры, то позволяется совсем пропустить иероглиф и перейти к следующему, понятнейшему”. За это и подобные ему места барона Брамбеуса упрекали в неуважении к науке. Помилуйте, как можно не верить в науку? – восклицала критика. Однако если начать упрекать Сенковского за неверие, то придется делать это в отношении не только науки, а чего-то гораздо большего. Фантастические путешествия насквозь проникнуты скептицизмом. Остановимся на одном из них – ученом.