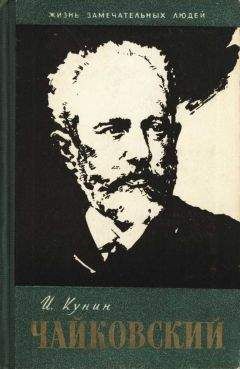Ознакомительная версия.
Поэт взял простое, будничное явление, которое, окажем словами Модеста Чайковского, «в других не вызывает ни улыбки, ни злобы». И вот в этом примелькавшемся и потому уже не замечаемом явлении он неожиданно раскрыл историю заглохшей женской души, показал человека в забитом жизнью труженике. Этот будничный трагизм, эта щемящая лирическая нота, так неожиданно пробившаяся в конце стихотворения, чрезвычайно близки духу зрелых стихотворений Апухтина (сравним: «В убогом рубище, недвижна и мертва, она покоилась среди пустого поля»). Вспоминаются также потрясающие тем же будничным трагизмом, той же безропотностью, той же за сердце берущей безответностью, но только согретые изнутри горячим чувством, женские монологи-исповеди Чайковского: его песни и романсы «Я ли в поле да не травушка была» или «Лишь ты один».
Помимо своих очевидных художественных достоинств, «Палашка» едва ли не единственный в своем роде поэтический отклик на знаменитое письмо Белинского Гоголю. Россия, писал в нем с болью и гневом великий критик, «представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми… страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками…»
Эти строки, ставшие подразумеваемым эпиграфом к стихотворению, можно было прочесть в журнале Герцена «Полярная звезда», где письмо Белинского было впервые напечатано в № 1 за 1856 год. Знал ли Апухтин этот журнал? Нет сомнения, что он еще на школьной скамье читал герценовские издания, формально запрещенные, фактически легко в те годы доступные. Не случайно в бесспорно ему принадлежащем стихотворении «Селенье» есть строки, варьирующие стихотворение-песню Рылеева, опубликованное в той же «Полярной звезде».
Вероятно, именно через Апухтина узнал сочинения Герцена Чайковский, отзывавшийся о нем впоследствии как о «поразительно умном и талантливом человеке».
Не следует думать, что знакомство с «Колоколом» и «Полярной звездой» было широко распространенным явлением среди правоведов тех лет. В военно-учебных заведениях, вспоминает Мещерский, «брошюры Герцена читались, сваливаясь с неба, и я помню при встрече с юнкерами-сверстниками разговоры о том, что у них классы делятся на герценистов и антигерценистов». Не то было в Училище правоведения: «Я не помню, чтобы где-либо его читали или чтобы о нем говорили». Апухтин с его литературными связями, с его радикально-демократическими настроениями резко выделялся на этом фоне. Много позже, вспоминая о школьной дружбе с Чайковским, он писал:
Мы увертюру жизни бурной
Сыграли вместе до конца,
Грядущей славы марш бравурный
Нам рано волновал сердца.
В свои мы верили таланты,
Делились массой чувств, идей…
И был ты вроде доминанты
В аккордах юности моей.
Это свидетельство для нас драгоценно. Написанные Апухтиным в стенах училища стихотворения бросают свет на формирование складывающегося в эти годы мировоззрения Чайковского. Маем 1858 года помечено стихотворение Апухтина «Песни». В унылых звуках крестьянских песен поэт чутко услышал «не одно гореванье тупое — плод бесконечных скорбей», но и «что-то иное», могучее, смелое, молодое:
Льются смелей заунывные звуки,
Полные сил молодых,
Прежних годов пережитые муки
Грозно скопилися в них…
Так вот и кажется: с первым призывом
Грянут они из оков
К вольным степям, к нескончаемым нивам,
В глушь необъятных лесов.
Пусть тебя, Русь, одолели невзгоды,
Пусть ты унынья страна…
Нет, я не верю, что песня свободы
Этим полям не дана!
В другом стихотворении, «Селенье», Апухтин обращается прямо к народу:
Братья! Будьте же готовы,
Не смущайтесь, близок час:
Жребий кончится суровый…
С ваших плеч спадут оковы,
Перегнившие на вас!
Две последние строки не были пропущены цензурой.
После окончания Апухтиным Училища правоведения в 1859 году, в сентябрьской книжке наиболее прогрессивного русского журнала «Современник» появилось десять его стихотворений под общим заголовком «Деревенские очерки». В их числе были и два процитированных стихотворения: «Песни» и «Селенье». Соседями Апухтина по журналу были Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Плещеев, М. Михайлов, Шелгунов и другие. «Деревенские очерки» получили признание, да и неудивительно. На Руси явился новый талантливый поэт радикального направления.
Чайковский приобщил Апухтина к музыке, занявшей заметное место среди тем его зрелого поэтического творчества. Апухтин сроднил Чайковского с литературой. Можно думать, что самобытный склад личности Чайковского давал себя знать и в те годы, что из двух друзей не только глубже, но и сильнее, чище, выше был будущий композитор. Но роль поэта остается огромной. Грибоедова, Пушкина, Лермонтова в училище не проходили. Курс литературы кончался на Озерове и Карамзине. С реалистической русской литературой познакомил своих товарищей Апухтин. Он часто хворал и с удовольствием отлеживался в училищном лазарете, окруженный книгами, журналами, всегда готовый, устремив взгляд в потолок, негромко, слегка нараспев декламировать для своих друзей «Онегина», «Мцыри», что-нибудь из Огарева или Некрасова. Он первый принес в училище известие, что «Севастопольские рассказы» и «Из истории моего детства»[8] таинственного Л. Н. Т. написал знакомый Тургенева, артиллерийский офицер-севастополец, некто граф Толстой.
Кто мог знать тогда, что Толстой станет на всю жизнь любимейшим писателем Чайковского? Кто мог знать, что образы Пушкина, запав в его сердце, начнут однажды жить новой жизнью — в музыке? «Я с самых ранних лет моих всегда бывал потрясен до глубины души глубокой поэтичностью Татьяны…»— писал сам Чайковский в 1883 году, мысленно возвращаясь к далеким временам Училища правоведения.
Увлечение передовой литературой, передовой критикой, радикальной публицистикой сливалось в те годы воедино. «Замечательно, — рассказывал о Чайковском его ближайший товарищ по консерватории Ларош, — что он… интересовался критикой литературной. О Добролюбове и Чернышевском, об Огареве и Герцене… — у нас с ним были разговоры, о музыкальных критиках — никогда». И еще решительнее и шире: «Несомненно, что склад понятий и представлений, ставший главным его содержанием, образовался в нем под влиянием русской литературы 40-х и 50-х годов…» Если вспомнить, что русская литература 40 — 50-х годов, то есть те же Герцен и Огарев, Толстой и Тургенев, Белинский и Чернышевский, Гоголь и Некрасов, вся была порождением нарастающего подъема народных масс, вся была пронизана зарницами предгрозья, то характеристику Лароша следует признать совершенно правильной.
Ознакомительная версия.