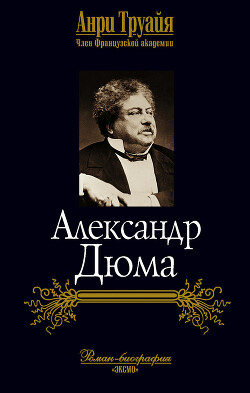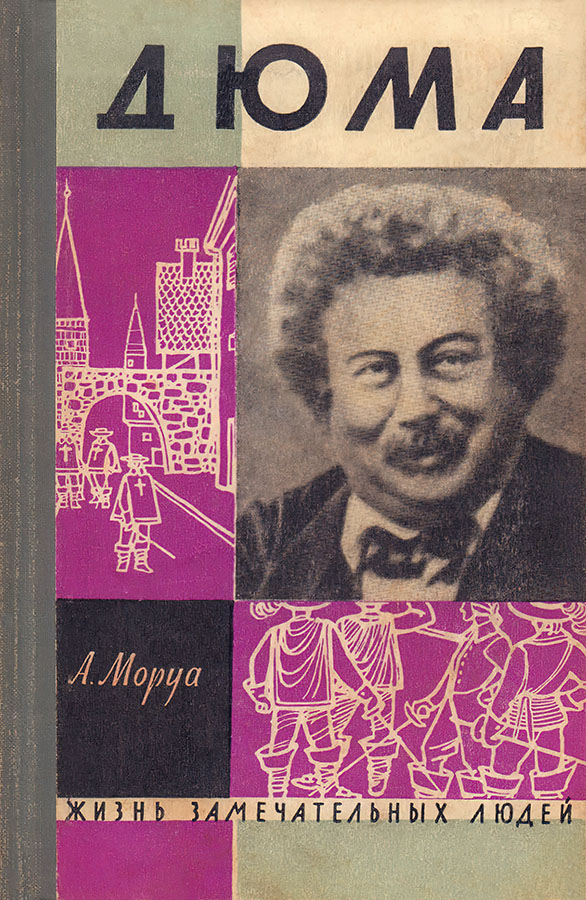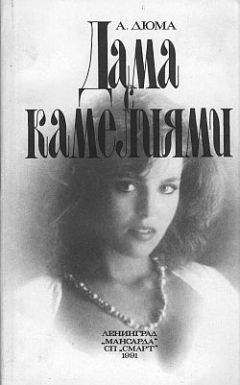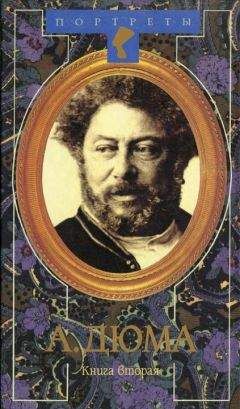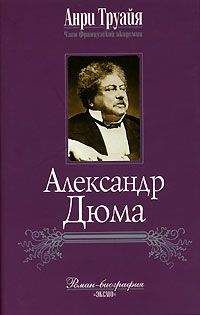Второго сентября Седан капитулировал, Наполеон III был взят в плен. Два дня спустя провозгласили Республику. Узнав об этом, Александр заплакал. Радовался ли он торжеству либеральных взглядов или горевал о поражении Франции? Республика, империя? В конце концов он в них совершенно запутался. Свою собственную войну он вел не против Пруссии, но против смерти. Но, собственно говоря, что же за болезнь угрожала его жизни? Врачи не решались высказаться определенно: диабет, гипертония, увеличение щитовидной железы, хронический ларингит? Тело разрушалось сверху донизу. Просто чудо, что больной все еще жив…
Пруссаки вот-вот могли войти в Париж. Мари, желая уберечь отца от опасностей, которым он мог подвергнуться, если враг займет столицу, с трудом дотащила его до железнодорожного вагона. Один из последних уходящих поездов отвез двух пассажиров в Невиль-ле-Дьепп, в местечко под названием Пюи, где у Александра-младшего была вилла. Выйдя на перрон, Дюма-старший, оглушенный, едва державшийся на ногах, сказал сыну: «Я приехал к тебе умирать». Ему отвели лучшую комнату, в первом этаже, окнами на море. Обе внучки, которых родила его сыну Надежда Нарышкина, часто заходили к Александру и развлекали его своей болтовней; сама Надежда Нарышкина и ее старшая дочь Ольга окружили больного нежной заботой. Аннушка, русская горничная, не знала, как ему угодить, старалась как могла сделать его пребывание в доме приятным и спокойным. Переживший столько мучений писатель, у которого на старости лет иссякли и мысли, и деньги, только удивлялся тому, что под конец жизни окружен такими удобствами и такой любовью. По его собственным подсчетам, он заработал за всю свою жизнь восемнадцать миллионов франков золотом – и потратил их на роскошные приемы, на путешествия, в которые отправлялся как вельможа, на покупку кораблей и мебели, на подарки женщинам. Вот и оказался в положении больного бродяги на попечении детей! Как-то вечером, думая обо всех тех богатствах, которые заработал и промотал, он прошептал, обращаясь к сыну и показывая на два луидора, лежавшие на столике у его изголовья: «Все говорят, что я был расточителен. Ничего подобного! Вот посмотри, как все ошиблись! Когда я в молодости приехал в Париж, у меня в кармане было два луидора… Видишь, они все еще при мне!» В другой раз, когда сын сказал ему, что русская горничная Аннушка находит его очень красивым, он вздохнул: «Постарайся укрепить ее в этой мысли!»
Но если Дюма все еще слабо интересовался тем, что происходило в доме, если соглашался порой поиграть в домино или разрешал в хорошую погоду усадить его в кресло на террасе, то до известий из Парижа ему больше дела не было. Он все чаще засыпал, и сон его становился все более тяжелым.
В понедельник, 28 ноября 1870 года, он отказался встать с постели. В ночь с 4 на 5 декабря у него случился апоплексический удар. Мари позвала аббата Андрэ, приходского священника из церкви святого Иакова в Дьеппе. Но священник не смог принять у Дюма исповедь – больной был слишком слаб для того, чтобы пошевелить губами, – и кюре оставалось лишь произнести над его неподвижным лицом молитву об умирающих. В десять часов вечера 5 декабря 1870 года Александр Дюма, не приходя в сознание, скончался на руках у дочери. «Он был гением жизни, – напишет Жорж Санд, – он не заметил прихода смерти». Назавтра, когда тело Александра покоилось на смертном одре, глаза были навеки закрыты, руки сложены на груди, в Дьепп вошли пруссаки. Грохот их сапог не потревожил покоя того, кто так боялся поражения Франции.
Похоронами Дюма-отца занимался Дюма-сын. Восьмого декабря 1870 года писателя временно похоронили на кладбище при маленькой церкви в Невиле-ле-Дьепп. Кроме родственников, за гробом шли делегация дьеппского муниципалитета и несколько художников. Падали крупные хлопья снега. Речи были уныло благопристойными. Газеты, захлебывающиеся военными новостями, ни слова не сказали о событии. Александр Дюма, великий театральный деятель, не сумел красиво уйти со сцены. Правда, Эмилия, узнав в Марселе, куда она уехала на время военных действий, о кончине прежнего любовника, демонстративно надела траурное платьице на свою дочь Микаэлу.
Как только война завершилась и закончилась оккупация, Дюма-сын перевез останки отца в Вилле-Котре и опустил их в могилу, вырытую рядом с могилами генерала Дюма и Мари-Луизы, его родителей, которых он так любил. Друзья пришли поклониться покойному: здесь были барон Тейлор, Эдмон Абу, Мейсонье, сестры Броган, даже Маке… После обычных речей сын произнес несколько прочувствованных слов: «Мой отец всегда хотел, чтобы его похоронили здесь. Он оставил в Вилле-Котре дружбу и воспоминания, и именно эти воспоминания и эта дружба встретили меня здесь вчера вечером, когда руки верных друзей протянулись к гробу, чтобы сменить носильщиков и самим отнести в церковь тело их великого друга… Я хотел бы, чтобы эта церемония была не столько траурной, сколько праздничной, не столько погребением, сколько воскрешением».
Накануне он получил письмо от Виктора Гюго, вернувшегося из ссылки с гордо поднятой головой: тот сидел у постели больного ребенка и не смог присутствовать на погребении. «Ничья слава в этом веке, – писал Гюго, – не превзошла славы Дюма, его успехи – больше чем успехи, это триумфы, они гремят фанфарами. Имя Александра Дюма принадлежит не только Франции, но всей Европе; оно принадлежит не только Европе, но всему миру. […] Александр Дюма из тех людей, которых можно назвать сеятелями культуры; он оздоровляет и укрепляет дух необъяснимым, веселым и сильным, светом; он оплодотворяет души и умы; он рождает потребность в чтении, он взрыхляет человеческую почву и засевает ее. От всех его творений, столь многочисленных, столь разнообразных, столь мудрых, столь пленительных и столь мощных, исходит свет, свойственный Франции».
Понемногу страна смирилась со своим поражением. Французы привыкали жить в республике, говорить об Эльзасе и Лотарингии с гневным отчаянием, лелеять мечту о необходимости взять реванш над Германией. Дела потихоньку начинали идти, семьи зализывали раны, книги вновь продавались так же хорошо, как и прежде, театральные спектакли делали отличные сборы, порядок восстановился, деньги потекли ручьями. Но чего-то недоставало даже тем, кто лучше всех сумел приспособиться к новой политической и социальной раскладке. Сами того не зная, они тосковали по добродушию и безрассудству, по веселой виртуозности, по мудрости и яркости, которые научил их любить своими романами и своими пьесами литературный колосс. Они еще не осмеливались произнести это вслух, боясь, что профессиональные критики назовут их наивными и примутся обличать небрежный стиль их любимого автора, примитивное изображение персонажей и неправдоподобие сюжетов в его романах и пьесах, но им казалось, что Александр Дюма вырывается из-под власти обычных суждений. Они смутно чувствовали, что плодовитый и громогласный творец заслуживает иного разбора, чем тот, которому подвергают других писателей. И вызвано это, должно быть, тем, что за почти сорок лет своей карьеры он дал жизнь нескольким незабываемым героям и на глазах у своих читателей превратил историю Франции в мифологию.