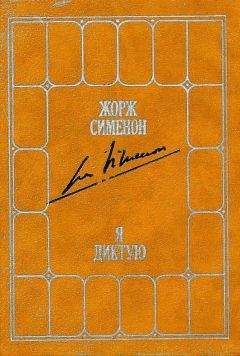А каково бедному псу ждать, пока хозяин отыщет одну из тех небольших цементных урн, которые невозможно назвать иначе, кроме как собачий нужник!
В противном случае хозяин животного обязан носить с собой пластиковый пакет и ложку с вилкой, чтобы старательно собрать в пакет все, от чего собака считает себя вправе освободиться, а пакет сунуть в карман.
Я же говорю вам, что мы свободны! Мы свободны даже взять себе экскременты нашей собаки и делать с ними все, что заблагорассудится. Как только мы собрали их с тротуара, правительство оставляет их нам в полное и безраздельное владение.
Похоже, в том, что я сегодня надиктовал, веселого мало. Зато наблюдается определенный прогресс по сравнению хотя бы со вчерашним днем: я не задел ни одну из своих обычных мишеней.
У меня даже появляется впечатление, что я начинаю подчиняться условностям.
17 декабря 1978
Я никогда не мог ответить на вопрос: «Что вынуждает меня писать?» Я задавал его себе сотни раз. Задавал уже в шестнадцать лет, когда писал первый роман и мать обеспокоенно спрашивала:
— Почему ты не пойдешь подышать свежим воздухом, вместо того чтобы часами марать бумагу?
Ее тоже занимал этот вопрос. Я находил множество ответов, которые более или менее устраивали меня, пока не убеждался, что они ошибочны.
Я знаю, почему в тринадцать лет начал курить трубку: чтобы казаться взрослым. Трубка превратилась в привычку, а привычка в конце концов стала частью меня самого. Я знаю, почему меня страстно влекло к женщинам: у меня была потребность узнать их, но не такими, какие они на улице или в кафе, а подлинных — таких, какими они бывают, сбросив одежду, в их тайной тайности.
Почти на все вопросы мне легко найти ответ. Например, почему я путешествовал? Я хотел узнать людей всех рас, всех эпох. Помню, по возвращении из первого кругосветного путешествия я заявил на пресс-конференции: «Путешествие вокруг света — это, скорей, путешествие не в пространстве, а во времени».
Я отметил, что, скажем, на Ближнем Востоке, где в то время еще встречались племена кочевников и караваны верблюдов, попадаешь в библейскую эпоху, а в некоторых районах Африки, на Борнео[164], на островах Фиджи имеются каннибалы, каковыми были в древности и наши предки.
А в заключение, если только память меня не подводит, я сказал, что путешествие вокруг света, совершенное частично на «типоё», то есть сидя на кресле, которое два негра несут на носилках через девственные джунгли, не только утомительно, но и оставляет горький привкус от знакомства с историей человечества.
Так что же, выходит, поэтому я столько написал? Но я никогда не путешествовал ни по одному из пяти континентов с намерением собрать материал для романа, а то и нескольких. И никогда не делал заметок. Порой проходило пять, десять лет, прежде чем какая-нибудь страна всплывала в памяти и становилась темой книги.
Возможно, сейчас я близок к удовлетворительному ответу. Меня всегда восхищал человек, как восхищало и восхищает все живое, животные и растения, которых я вовсе не считаю несовершенней нас.
Я остановился на человеке и, наглядевшись на него на всех широтах, старался его изобразить, чтобы понять.
Но изобразить не таким, каким он видится. Не таким, каким видишь его на улице, на службе, в кабачке, а таким, каков он есть, — с его боязнью самораскрытия и с потребностью быть личностью.
Это и заставляло меня так упорно трудиться, хотя я не был уверен в успехе. Во мне так мало этой уверенности, что в семьдесят лет я решил: человеку ближе и доступней всего для наблюдения он сам.
Но до той поры, упорно открывая для себя других, я не пытался наблюдать за собой.
Но вот уже пять лет, как я занимаюсь этим. То, что я диктую, не является ни мемуарами, ни дневником, ни высокоинтеллектуальными размышлениями. Это, в сущности, серия моментальных снимков, более или менее точно представляющих жизнь человека, и поэтому я стараюсь быть полностью откровенным, не позволяя подлинной или ложной стыдливости сдерживать меня.
И с этой точки зрения мне понадобилось прожить семь десятков лет, чтобы обнаружить, что я не обрел удовлетворения.
Не знаю, даст ли мне его то, что я диктую. У меня впечатление, что я еще только в самом начале, и я был бы разочарован, даже пришел бы в отчаяние, если бы пришлось остановиться, так и не узнав, что в конце.
Вероятно, у меня не много достоинств, но одно есть несомненно: воля. Доказательство тому вся моя жизнь, плоды которой не вместит и целый книжный шкаф.
Начиная пять лет тому назад диктовать, я объявил о характере этой серии и предупредил, что буду едва ли не единственным персонажем этих книг.
Рискуя в один прекрасный день опротиветь из-за этого самому себе, я все же стойко продолжаю диктовать.
Тереза заметила, что я, не давая ответа, ответил на заданный себе вопрос. Тем лучше! В противном случае мне было бы уже нечего делать.
Из книги «Спящая женщина»
2 марта 1979
В шестнадцать лет в Льеже у букиниста я откопал старое издание Монтеня. Я тогда увлекался старинными книгами, и запах пожелтевшей бумаги был для меня куда заманчивей запаха вкусной еды или пирожных. Я взахлеб прочел все три тома, и они на долгие годы стали моими настольными книгами: я мог открыть их на любой странице и с наслаждением читать.
Через много лет я снова перечел «Опыты» и до сих пор еще помню многие высказывания. В конце XVI века Монтень был мэром Бордо. Этот город, как и многие другие города Франции, переживал тогда тяжелые времена в смысле политическом и военном. То была эпоха религиозных войн и Лиги[165]. Каждый должен был выбрать, к кому примкнуть, и Монтень, взявший на себя ответственность за большой город, заигрывал одновременно с двумя соперничающими силами — с Генрихом Наваррским и Генрихом III.
В «Опытах», которые в некотором смысле являются одновременно и мемуарами, и дневником, Монтень об этом говорит очень немного, можно сказать, почти ничего.
Так, в момент, когда мир в Бордо был как никогда хрупким, Монтень распространялся о состоянии своего мочевого пузыря: у него были камни. Как только представилась возможность, он уехал на воды в Пломбьер, потом в Баден и отсутствовал в Бордо, когда горожан косила чума.
Поразила меня еще одна деталь, правда, с запозданием. Он пишет, что каждый несет в себе «полноту человеческой природы». Начав писать «Опыты», Монтень перестал изучать своих современников и стал постигать себя: он уже мог мысленно представить себе любого человека.
Я знаю многих, кто почерпнул у Монтеня знание и правила жизни; это вполне понятно и в значительной степени относится и ко мне.