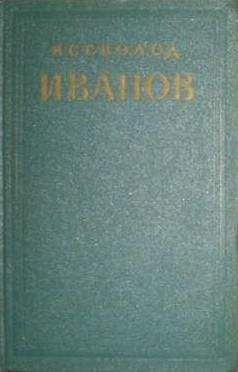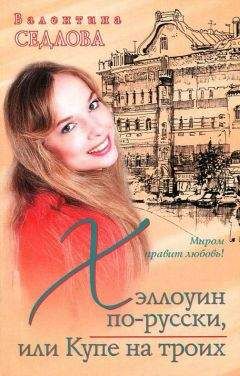— После того, как я узнал, что он индийский, я и не подумаю его выбросить.
Глаза у Горького сверкнули:
— А брошки были б великолепные! А вот этот винтик на кольцо? Право, закажите брошки! Макс вам укажет превосходного ювелира! Итальянцы — отличные ювелиры.
— Нет, уж лучше я не буду портить.
И он мне вернул часы, как мне показалось, с легким сожалением.
Когда мы пришли в отель, жена с упреком сказала мне, что хотя я и рожден на Востоке, но самых элементарных обычаев вежливости Востока не знаю. Если на Востоке хвалят какую-либо вещь, вы должны немедля подарить ее человеку, который ее похвалил и которому она понравилась.
— Ну, почему ты не подарил эти часы? Зачем они тебе нужны?
— Вообще-то они мне, конечно, не нужны. Но я задумал книгу. Там будет нечто об Индии. И вдруг единственная вещь индийская, старинная у меня на руках, а я хотел выбросить из нее механизм. Естественно, что я вцепился в нее, и мне не хотелось отпускать. Поэтому не пришло в голову и подарить.
— Ну, а сейчас?
— Сейчас я одумался. Подарю. Еще неизвестно, напишу ли я задуманную книгу. Только примет ли Алексей Максимович теперь мой подарок.
— Не примет, если скажешь, что предполагаешь что-то об Индии. Собственно, зачем тебе писать об Индии?
На другой день к обеду я принес часы и положил их на стол, под салфетку Алексея Максимовича. Когда он сел и развернул салфетку, он увидал часы. Он не хотел их принимать, но я уверил его, что действительно выкину механизм и вставлю современный, а брошек для дам из механизма делать не буду, — возможно, дамы от Алексея Максимовича и примут такие брошки, но от меня они предпочтут получить современной парижской выделки.
Алексей Максимович, глядя на мою жену, вдруг сказал:
— Это вы его надоумили. — И он, смеясь, добавил: Если дама дарит, отказываться неприлично. Но тогда, Тамара Владимировна, разрешите вас отдарить.
И он вынес из кабинета великолепную старинную китайскую вазу из розового нефрита:
— Приобрел на гонорар от первого собрания сочинений. Следовательно, отказываться вам нельзя, как от книги с автографом. Кроме того, получите от меня брошку: из механизма этих часов.
* * *
Едем домой.
В Риме на улице Лоренцо, когда мы, усталые, возвращались из Сан-Мария Маджиори, я остановился закурить возле большого часового магазина, принадлежащего, насколько помнится, некоему Пинчиана. На вывеске было написано, что фирма существует с XVI столетия. Тут я вспомнил, что одна из наших родственниц просила, если будет возможность, приобрести ей часики.
Иду вдоль прилавка. Магазин весь наполнен стуком часов, точно где-то поблизости шумит крупный дождь. Чувствую близость того несчастного времени, когда не знаешь, что выбрать, чем угодить. Оглядываюсь беспомощно и вдруг в конце комнаты на отдельном столике, и в хрустальном ящичке, в нише, вижу мои черепаховые индийские часы. Что за наваждение! Поспешно иду к столику. Они.
Сажусь. Разглядываю. Они.
Поспешно подходит сам владелец магазина, синьор Пинчиана, гладкий, точно блинами выкормленный. Спрашиваю: «Откуда у вас такие часы?» Итальянец говорит:
— Мой прадед торговал с Индией. Там он и приобрел часы. С того момента он пристрастился к часам вообще и основал эту фирму. Мы держим эти часы и как залог благосостояния нашей фирмы и, разумеется, как драгоценность.
«А, итальянское суеверие», — подумал я.
— Драгоценны, как память.
Итальянец, улавливая мою мысль, сказал:
— Нет, и как работа драгоценны.
Итальянец принес какой-то антикварный каталог, где была напечатана фотография часов, и сказал:
— Часы оцениваются от десяти до пятнадцати тысяч долларов. Это единственные по редкости часы в мире.
— Ну, положим, не единственные, — сказал я, вглядываясь в часы: оправа их как бы ссохлась, потрескалась, а хрусталь чуть треснул сбоку. Это был второй экземпляр — и мой, несомненно, лучше. — Есть еще экземпляр. И вашему экземпляру далеко до того.
— Мне крайне интересно знать, у кого имеется второй экземпляр. Нельзя ли посмотреть? Если нельзя, то не скажете ли вы этому человеку, что часы — ужасающая редкость и что их надо беречь.
— Хорошо, я скажу.
И мы расстались.
Хотя я был очень рад и горд, что подарил замечательную вещь Алексею Максимовичу, а он угадал ее художественную ценность, меня смущало, что Алексей Максимович возьмет да вынет механизм, превратит его в брошки и раздарит. И останется тогда толстый итальянец Пинчиана единственным владетелем редкостных часов. Написать Алексею Максимовичу откровенно обо всем. Но Рим рядом! Поедет туда Макс, и вместе с историей часов узнает от синьора Пинчиана их цену. Допустим, что синьор Пинчиана хвастается и часы стоят не десять тысяч долларов. Но и тогда получается неудобно… Словом, как я ни крутился, как я ни пробовал найти какой-нибудь брод через бурные и затруднительные обстоятельства, ничего я не нашел, и пришлось мне махнуть рукой и плыть по течению реки времени.
Забыл я про индийские часы. Раза два вспомнил, когда стали бранить «Похождения факира» — за формализм, да однажды, когда получил трогательное по наивности письмо от какого-то студента, который спрашивал меня, зачем я стремился в Индию, когда это в культурном отношении отсталая колониальная страна.
— Где-то теперь эти индийские часы? — сказал я жене.
— Какие часы? Не помню, — ответила жена.
Прошло лет двенадцать. На Малой Никитской, в квартире Алексея Максимовича, вспоминая его, вспомнили мы и о Сорренто и нашем гощении там. Вспомнил я и про индийские часы и, смеясь, рассказывал о них. Один из близких к Алексею Максимовичу сказал, что, сколько он знает, среди вещей Алексея Максимовича таких часов нет. А что касается синьора Пинчиана, то магазин его известен в Риме, и не столько часами, сколько вздорной болтовней самого синьора. Дела у него в те годы шли плохо, и если б часы действительно стоили так много, он не замедлил бы продать их путешественникам-американцам, которые как раз в эти годы скупали в Италии всяческие редкости.
— Нету! Значит, обратил механизм в брошки и раздарил, — сказал я.
— И брошек таких он никому не дарил!
Прошло еще несколько месяцев. Мы опять увиделись, опять вспомнили Италию, крепкие февральские вечери, иней на апельсиновых деревьях, прикрытых от мороза рогожами, темный, словно бы мохнатый, ночью, как овчина, залив, вечера, шутки, игру в «подкидного дурака», чтение, возвращение из дома в отель по узкой улице, желание Алексея Максимовича каждый раз проводить нас; вспоминали сад, рыбную ловлю, художников, делавших этюды, покойного фантаста Ракитского, вспомнили и дюка Серра-Каприола, и пропавшие письма Пушкина…