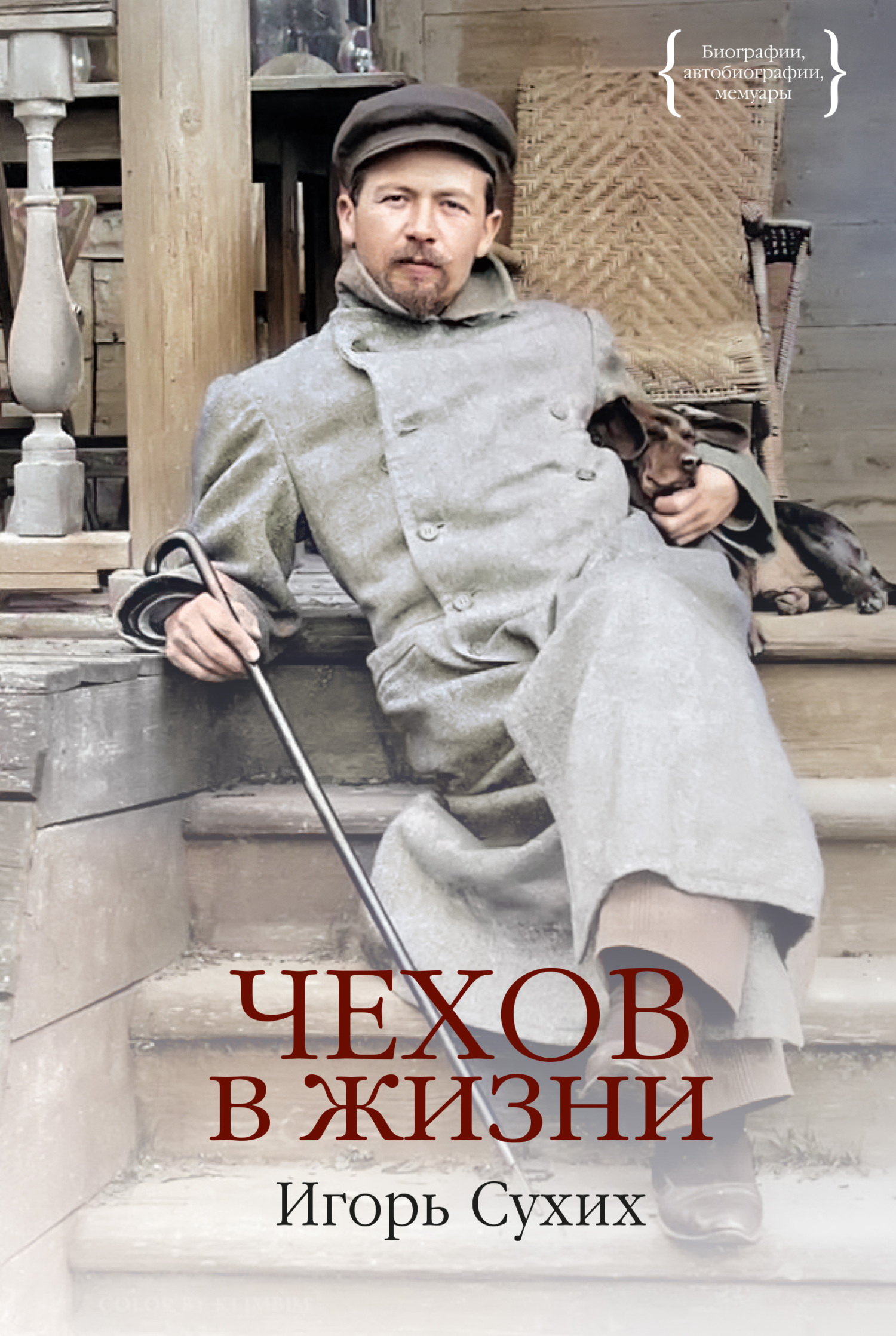скандала: Чехов и Достоевский [60]
Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге.
И. Бабель. «Как это делалось в Одессе»
Чем глубже человек погружен в ту или иную сферу существования, тем сложнее объективировать ее. Сон легче определяется, чем жизнь, а «чихание» легче, чем «переживание». Разговор о семиотике, семантике, поэтике и культуре скандала должен начинаться с предварительного его определения. У школьного, популярного С. И. Ожегова «скандал»: «1. Случай, происшествие, позорящее его участников. 2. Происшествие, ссора, нарушающие порядок (руганью, дракой и т. д.)». У вечного В. И. Даля (приводящего, кстати, немецкий, французский, латинский и греческий варианты) – «срам, стыд, позор; соблазн, поношение, непристойный случай, поступок».
В наших целях необходимо различать в скандале некое событие бытия (случай, происшествие), наряду с автомобильной аварией или научным симпозиумом, ядром которого становится речевой жанр, подобный светской беседе, докладу и совсем близкий ссоре (ссору можно определить как недоразвитый, не дошедший до кульминации скандал, хотя ссора гоголевских Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича – уже чистый скандал).
Семиотика реального бытового скандала находит в культуре двойное отражение. Во-первых, она порождает литературный скандал как сознательное нарушение норм и эстетических конвенций – феномен, особенно распространенный на любом крутом переломе – при смене школы, метода, направления.
Существует книга, описывающая с такой точки зрения пушкинскую эпоху [61].
О. Мандельштам в «Египетской марке» (1928) возводил эту форму литературной борьбы к следующей эпохе: «Скандалом называется бес, открытый русской прозой или самой русской жизнью в сороковых, что ли, годах. Это не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова. Скандал живет по засаленному просроченному паспорту, выданному литературой. Он – исчадие ее, любимое детище» [62].
Для Писарева скандал был обязательной приметой именно его времени, 1960-х годов. Он определяет и осуждает его как продукт консервативной журналистики: «Сколько мне кажется, редакция „Русского вестника“ под названием литературного скандала подразумевает разные печатные разбирательства о литературных и нелитературных предметах. <…> Скандалом, на языке образованной полиции, называется, как известно, всякое происшествие, нарушающее обычный ход действия в каком-нибудь публичном месте и возбуждающее в собравшейся толпе зевак какие бы то ни было толки» («Московские мыслители», 1862) [63]. Однако его собственная критическая деятельность подчиняется законам скандала, будь ли это нелегальная статья против Шедо-Ферроти (1862), за которую он был арестован и посажен в крепость, или написанный в заключении «Пушкин и Белинский» (1865), одна из самых скандальных статей в истории русской критики.
Скандал – нарушение обыденной, естественной логики, правил хорошего тона, однако, в свою очередь, подчиняющееся другим нормам и тем самым становящееся культурным стереотипом и речевым жанром (как война, в старом ее понимании, была нарушением норм и запретов мирной жизни, однако предполагавшим свои конвенции). Когда бытовой скандал становится предметом литературного изображения – темой, эпизодом, мотивом, приобретает сюжетное и композиционное значение, он выявляет и отражает какие-то существенные черты художественного мира.
Достоевский и Чехов в этом смысле – удобный предмет для наблюдений. Они – писатели, использующие один и тот же материал и одновременно – при хронологической близости – в культурном сознании находящиеся едва ли не на противоположных полюсах.
Общепризнанно, что сцены скандалов имеют структурообразующее значение для Достоевского. На них построены ключевые эпизоды «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых». Скандал лежит в основе «Скверного анекдота», «Дядюшкиного сна», «Села Степанчикова и его обитателей». Достоевский не только изображал скандалы в романах и повестях, но и несколько раз концептуализировал понятие в любопытных контекстах. «Журнальная заметка о новых литературных органах и новых теориях» (1863) представляет скандал нарушением логических связей: «Это уже скандал, а не логика!» [64] Письмо, написанное жене с пушкинского праздника (27 мая 1880 года) связывает скандал с анекдотом: «…Войдет в анекдот, в скандал» (30, кн. 1, 165).
Чеховское изображение этого феномена не столь известно. Но в воссоздаваемой писателем универсальной картине современного мира скандалу тоже находится соответствующее место. Один из ранних чеховских рассказов так и называется, «Два скандала» (1882). На скандальных ситуациях построены сюжеты «Маски» (1884) и «Соседей» (1894). Скандал становится формой развертывания важных эпизодов (причем всегда – в третьем действии) внешне бессобытийных чеховских пьес (ссора Треплева и Аркадиной в «Чайке», продуманная истерика Наташи в «Трех сестрах», страсти вокруг продажи дачи в «Дяде Ване», пьяный монолог нового владельца вишневого сада в последней пьесе).
Попробуем проследить логику подобных сцен более подробно.
В VIII главе первой части второй книги «Братьев Карамазовых», «Скандал», завершается сюжетный эпизод, уже намеченный в главе VI «Зачем живет такой человек!». Приехавший в монастырь для примирения с сыном старый шут Федор Павлович Карамазов начинает скандал в келье старца Зосимы и продолжает его в монастырской столовой, обвиняя уже не только сына в замысле отцеубийства, но и монахов в нарушении тайны исповеди: «Отцы святые, я вами возмущен. Исповедь есть великое таинство, пред которым и я благоговею и готов повергнуться ниц, а тут вдруг там в келье все на коленках и исповедуются вслух. Разве вслух позволено исповедываться? <…> Так ведь это скандал! Нет, отцы, с вами тут, пожалуй, в хлыстовщину втянешься… Я при первом же случае напишу в Синод, а сына своего Алексея домой возьму…» (14, 82).
Таким образом, оправдываются слова Дмитрия: «Батюшке нужен лишь скандал, для чего – это уж его расчет. У него всегда свой расчет. <…> Этот коварный старик созвал всех вас сюда на скандал» (14, 66).
Образная семантика скандала у Достоевского складывается из следующих элементов: публичное пространство, функцию которого выполняют не только привычная монастырская трапезная, но и монашеская келья, – персонаж – провокатор – динамика, две фазы скандала, сопровождающиеся все более напряженными речевыми партиями (вызов сына на дуэль, ответное рычание Дмитрия «Зачем живет такой человек!») и неожиданными жестами (земной поклон старца Зосимы Дмитрию), – отъезд, венчающийся «еще одной паяснической и невероятной почти сценой, восполнившей эпизод», появлением помещика Максимова: «И я, и я с вами! – выкрикивал он, подпрыгивая, смеясь мелким веселым смешком, с блаженством в лице и на все готовый, – возьмите и меня!» (14, 84).
Сцена в третьем действии «Дяди Вани» развертывается по сходной схеме. Персонажи (члены семьи, Вафля) собираются в публичном пространстве (гостиная). Инициатор-провокатор, профессор Серебряков, излагает свое намерение продать имение. Скандальная интрига раскручивается по спирали: Войницкий переспрашивает, произносит резкий монолог, признается в ненависти к профессору, мать его обрывает; Соня поддерживает и пытается вразумить профессора;