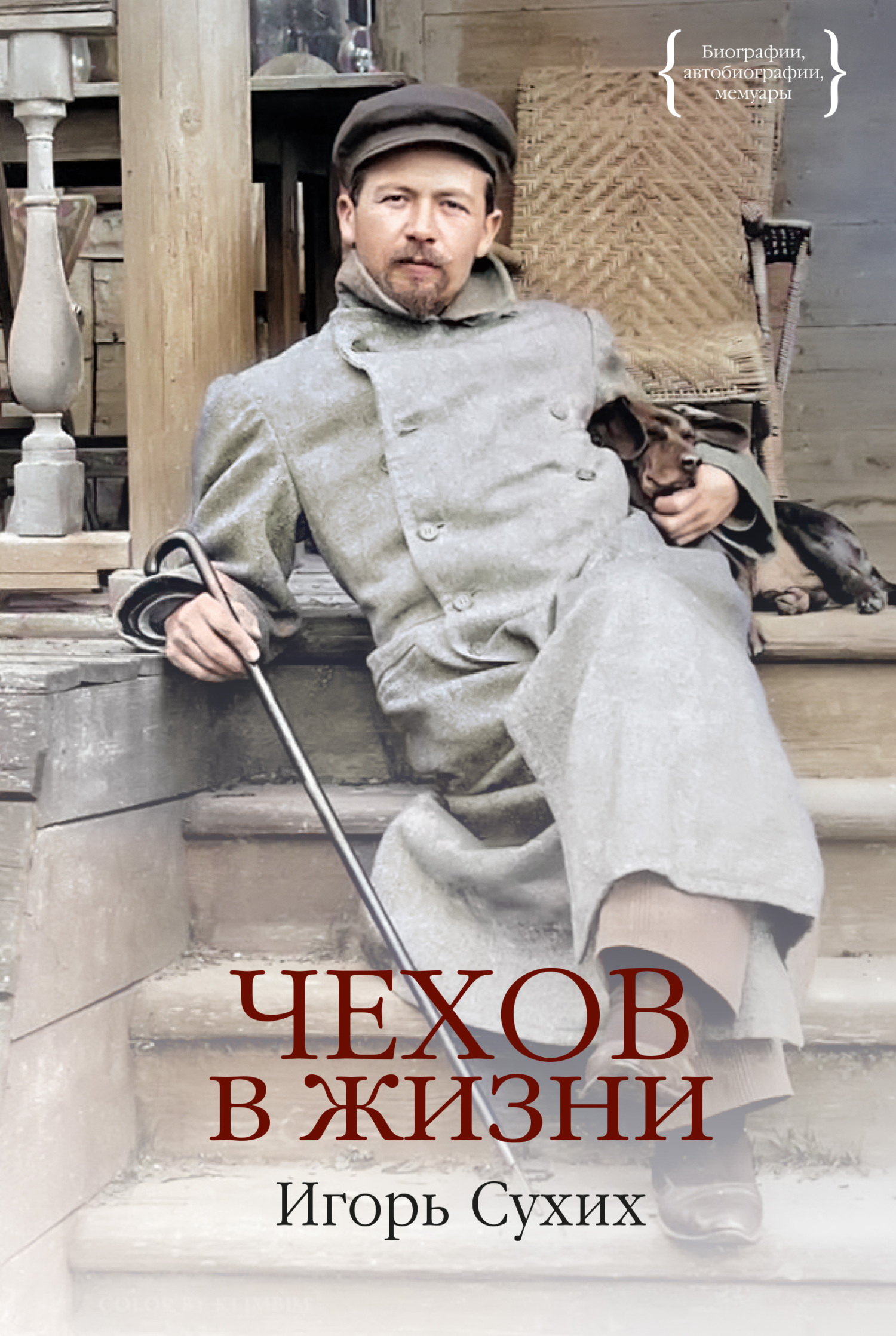за горло и говорит:
– Печатай, Ма-Сте, все шесть листов, а то получишь кукиш с маслом!» (М. В. Киселевой, 5 апреля 1888 года; П2, 234).
И более позднее письмо с тем же ироническим сопоставлением: «Все сотрудники (за исключением Шекспира, меня) за первые свои рассказы в „Новом времени“ получали сплошной пятачок – это правило, нарушаемое очень и очень редко…» (А. С. Лазареву-Грузинскому, 13 марта 1890 года; П4, 35).
Аналогичный прием – проведение через противоположное – используется в чеховской прозе. (Точно так же писатель поступает и с другими темами и мотивами.)
Шекспир появляется в серьезных, драматических/мелодраматических чеховских произведениях как знак высокого искусства, к которому стремятся, которым утешаются чеховские персонажи-неудачники.
«Барон» (1882) – рассказ о человеке, который мечтал быть великим актером, но обречен сидеть в суфлерской будке и подсказывать слова другим.
«Когда дают Шекспира, барон находится в самом возбужденном состоянии. Он много пьет, много говорит и не переставая трет кулаками свои виски. За висками кипит жестокая работа. Старческие мозги взбудораживаются бешеной завистью, отчаянием, ненавистью, мечтами… Ему самому следовало бы поиграть Гамлета, хоть Гамлет и плохо вяжется с горбом и со спиртом, который забывает запирать бутафор. Ему, а не этим пигмеям, играющим сегодня лакеев, завтра сводников, послезавтра Гамлета! Сорок лет штудирует он этого датского принца, о котором мечтают все порядочные артисты и который дал лавровый венец не одному только Шекспиру. Сорок лет он штудирует, страдает, сгорает от мечты… Смерть не за горами. Она скоро придет и навсегда возьмет его из театра… Хоть бы раз в жизни ему посчастливилось пройтись по сцене в принцевой куртке, вблизи моря, около скал, где одна пустыня места,
Сама собой, готова довести
К отчаянью, когда посмотришь в бездну
И слышишь в ней далекий плеск волны» (1, 455–456).
Этот эпизод предваряется явно авторским наблюдением: «В наши дни Шекспир слушается так же охотно, как и сто лет тому назад».
Сходным афоризмом Чехов окончит рецензию «Гамлет на пушкинской сцене» (1882): «Лучше плохо сыгранный Шекспир, чем скучное ничего» (16, 21).
Самым шекспировским прозаическим текстом Чехова может показаться фельетон (авторское определение) «В Москве» (1891), героем-рассказчиком которого становится московский Гамлет. «Да, я мог бы! Мог бы! Но я гнилая тряпка, дрянь, кислятина, я московский Гамлет. Тащите меня на Ваганьково!» (7, 507).
Однако как раз здесь мы сталкиваемся с четвертым, намеченным выше, типом литературных взаимосвязей. Акцентированные Чеховым свойства героя (невежество – высокомерие, апломб – зависть) восходят не к Шекспиру, а к сниженным версиям русского гамлетизма обильно представленным в нашей словесности. «Московский Гамлет» встает в один ряд с «Гамлетом Щигровского уезда» (1848) И. С. Тургенева (и его же концепцией шекспировского героя, представленной в речи «Гамлет и Дон-Кихот», 1860), «Гамлетами – пара на грош (Из записок лежебока)» (1882) Я. В. Абрамова, «Гамлетизированными поросятами» (1882) Н. К. Михайловского (рецензия на повести и рассказы раскаявшегося народника Ю. Н. Говорухи-Отрока).
Чаще же, как и в письмах, Чехов включает шекспировские мотивы в комический контекст, делая Гамлета предметом непритязательного юмора Антоши Чехонте.
«На сцене дают „Гамлета“.
– Офелия! – кричит Гамлет. – О, нимфа! помяни мои грехи… (Очередное использование этой расхожей реплики. – И. С.)
– У вас правый ус оторвался! – шепчет Офелия.
– Помяни мои грехи… А?
– У вас правый ус оторвался!
– Пррроклятие!.. в твоих святых молитвах…»
(«И то и се. Поэзия и проза», 1881; 1, 104–105).
«11 <марта.> Четверг. В г. Конотопе, Черниговской губ., появится самозванец, выдающий себя за Гамлета, принца датского» («Календарь „Будильника“ на 1882 год. Март-апрель; 1, 144).
«Принц Гамлет сказал: „Если обращаться с каждым по заслугам, кто же избавится от пощечины?“ Неужели это может относиться и к театральным рецензентам?» («Мои остроты и изречения», 1883; 2, 253).
Такой же принцип – амбивалентность архитектонических форм – обнаруживается при изучении связей Чехова и Пушкина [53].
Любопытно, что в рассказе «Аптекарша» (1886) английский и русский классики комически объединяются: Шекспиру приписывается фраза из «Евгения Онегина».
«Обтесов вынимает из кармана толстый бумажник, долго роется в пачке денег и расплачивается.
– Ваш муж сладко спит… видит сны… – бормочет он, пожимая на прощанье руку аптекарши.
– Я не люблю слушать глупостей…
– Какие же это глупости? Наоборот… это вовсе не глупости… Даже Шекспир сказал: „Блажен, кто смолоду был молод!“
– Пустите руку!
Наконец покупатели, после долгих разговоров, целуют у аптекарши ручку и нерешительно, словно раздумывая, не забыли ли они чего-нибудь, выходят из аптеки» (5, 196).
В поздних чеховских текстах, подобно письмам, преобладающей является антономазия: Шекспир упоминается в каком-то ряду (причем, как правило, персонажами) в качестве великого человека.
«Они <студенты> охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Епиктет или Паскаль, и в этом неуменье отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность» («Скучная история», 1889; 7, 288). (В этой повести, впрочем, есть и контактные связи: начитанный профессор вспоминает Отелло с Дездемоной и шекспировских гробокопателей.)
«– Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! – сказал Коврин» («Черный монах», 1894; 8, 251).
Аналогично используется имя Шекспира в «Огнях» (1888; 7, 111) и «Пари» (1889; 7, 232).
Из прозы два основных типа шекспироиспользования (цитата – антономазия) плавно перетекают в драму.
Драматический этюд «Лебединая песня (Калхас)» (1886) строится на мотиве, уже реализованном в «Бароне».
Старый, вышедший в тираж, одинокий комик Светловидов на мгновение пробуждается к иной жизни, цитируя шекспировских «Короля Лира» и «Гамлета».
Его кульминационный монолог выдержан в амбивалентном тоне:
«Светловидов (кричит, оборачиваясь в сторону стука). Сюда, мои соколы! (Никите Иванычу.) Пойдем одеваться… Никакой нет старости, все это вздор, галиматья… (Весело хохочет.) Что же ты плачешь? Дура моя хорошая, что ты нюни распустил? Э, не хорошо! Вот это уж и не хорошо! Ну, ну, старик, будет так глядеть! Зачем так глядеть? Ну, ну… (Обнимает его сквозь слезы.) Не нужно плакать… Где искусство, где талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни болезней, и сама смерть вполовину… (Плачет.) Нет, Никитушка, спета уж наша песня… Какой я талант? Выжатый лимон, сосулька, ржавый гвоздь, а ты – старая театральная крыса, суфлер… Пойдем!
Идут.
Какой я талант? В серьезных пьесах гожусь только в свиту Фортинбраса… да и для этого уже стар… Да…»
Однако Светловидов уходит со сцены, декламируя «Отелло», под возгласы суфлера «Талант! Талант!» (11, 214–215).
В «Лешем» и «Трех сестрах» вместо цитат опять появляется