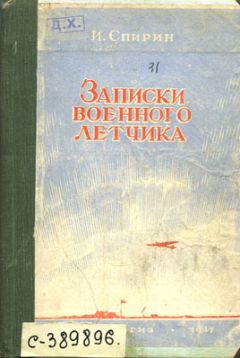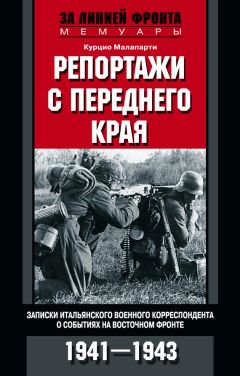Спор закончился тем, что в чем-то уступил редактор, в чем-то автор. Роман напечатали. И канул он как камень в болото — ни откликов, ни рецензий. Сначала мне казалось странным это. А спустя какое-то время я перечитала роман как рядовой читатель и поняла: произведение это пресное, без изюминки. Все то, что было ярким, острым в рукописи общими усилиями редакторов (и моими в том числе) удалось смазать, сгладить, «причесать». Совсем, казалось бы, незначительные уступки сделал нам автор (по сравнению с другими авторами, так и вовсе микроскопические), а что-то в произведении безвозвратно померкло. Мне стыдно теперь за те добрые слова, которые сказал мне Хавкин в процессе работы. Я не заслужила их, т. к. не сумела до конца отстоять все то, ради чего был написан роман. Я пошла на какие-то компромиссы ради того, чтобы «сохранить роман в целом» (как, впрочем, и автор). После того, как роман был опубликован, Хавкин больше не писал мне, и на трафаретные поздравления редакции с Новым Годом (всем авторам, которые «в активе», рассылают открытки, написанные под копирку) и «выражение надежды», что новые свои произведения пришлет именно в наш журнал, не ответил. Не встречала я за последние годы его имени и на страницах других журналов.
По мере работы в редакции во мне все более утверждался «внутренний цензор» и я все меньше конфликтовала со своими руководителями. Побывало за это время в моих руках несколько рукописей действительно талантливых авторов. Один (из Ленинграда) написал повесть-исследование о том, как из порядочного журналиста вырастает карьерист и приспособленец. Другой — из Владивостока — прислал серию рассказов о рыбацких промыслах, о сезонниках, о девушках консервного завода на острове Шикотан. Взволновали они меня чрезвычайно. Читала сама, некоторым близким друзьям давала читать, но в редакции даже никому показывать их не стала, т. к. знала: кроме нареканий за то, что занимаю время явно «непроходимыми» вещами, ничего не получу. Написала авторам хорошие письма, поздравила их с несомненной творческой удачей, посочувствовала тому, что «увы, произведения их вряд ли увидят свет». Ответили оба, благодарили просто за внимание и за то, что «по-человечески» разговариваю с ними, радовались тому, что хоть у нескольких читателей (тех, кому я давала) их произведения нашли отклик.
Вот так. Прямо стихами Вознесенского можно сказать:
Аминь.
Убил я поэму. Убил не родивши.
К Харонам. Хороним.
Хороним поэмы.
А журнал, как печь, требует регулярной загрузки горючим. И уже вошло в привычку осторожничать, перестраховываться и, не дожидаясь отповеди Главреда, самой убирать из вполне «благополучных» рукописей все то, что в какой-то мере шло «не туда», или могло быть «не так понято читателем». И все реже защищала авторов, реже была их «союзником». Последний случай на моей памяти — это когда я сцепилась с дамой из ЛИТО. Есть такой орган, расшифровку которого я, к стыду своему, до сих пор толком не знаю, но суть которого весьма определенна и без визы которого не может быть опубликована ни одна страница. Находится он в здании Облисполкома, сидят там дамы величественные, преисполненные собственного достоинства, и посетители говорят с ними всегда заискивающим тоном и шепотом. Редактировала я повесть иркутянина, молодого талантливого парня — В. Распутина. Повесть о людях простых, безыскусных, о том, как их запутали проходимцы, и для спасения от тюрьмы им надо было немедленно покрыть недостачу в 1000 рублей. И вот в том, как отнеслись к человеку в беде окружающие, как проявилась сущность каждого из друзей и родственников, — основное содержание повести. Казалось бы, к чему тут можно было бы придраться сотрудникам ЛИТО? (Тем более, что их официальная функция — охрана государственных тайн и сведений «закрытого характера»). И однако дама, прикрепленная к нашему журналу, пригласила меня на «собеседование» по поводу этой повести. Оказывается, ей «непонятно, чем руководствовалась редакция, отобрав из многих произведений именно это? И зачем печатать такого никому неизвестного автора? Он еще где-нибудь печатался? Положительные рецензии на него есть? Ах, нет… Вот видите! А вы его защищаете. И зачем-то вытаскиваете за уши. Хотя история нетипичная. Как это в целой деревне человек не может занять каких-то 1000 рублей?! Что ж у нас такие бедные колхозники?». Я обозлилась и говорю: «Какая же это “клевета”? Мне вот 40 рублей на днях нужны были, и я не могла найти, у кого занять, — и это в большом городе, а не в деревне!». Дама: «У вас частный случай, а Распутин художественное произведение пишет. Значит, это обобщение, как бы типичный факт (Вот до чего грамотная дама! Все знает и понимает — и что такое литература, и что такое “типично"). Значит, он частный случай выдает за общее и тем самым искажает действительность. И вы, редактор, поощряете это. А вообще повесть пессимистическая». Не помню уж, как именно протекала наша беседа дальше, помню только, что у меня от злости вроде туманом глаза заволокло, и я боялась только одного: как бы не сказать всего того, что я думаю об этой даме и ей подобных. Но, видимо, и то, что говорила, «выходило за рамки», т. к. ее коллега подошла к столу и сказала ледяным томном: «Совершенно ни к чему продолжать эту дискуссию. Мы свое мнение сказали, и теперь передадим эту повесть в обком. Пусть пригласят вашего Главреда и там решат, печатать ее или нет».
Не знаю, как проходил разговор Главреда в «инстанциях», но к нашему удивлению он взял публикацию повести «под свою личную ответственность», причем его предупредили: если будут отрицательные рецензии, то тогда «за публикацию вопреки мнению ЛИТО с него будет спрошено со всей строгостью». История эта подняла Главреда на уровень «героя», и на него взирали чуть ли не как на «Александра Матросова», который «собственной грудью» и т. д. Сам он вскоре, видать, струхнул, а зав. отделом, наш вечно испуганный Б. К., пожурил меня: «Ну, зачем вы все так обострили и поставили Александра Ивановича под удар. Неужели нельзя было убедить Распутина что-то смягчить, сгладить. Ну, пусть бы в последних строчках повести стало ясно, что недостающую сумму он от брата получит». Я уж и говорить ничего не могла, только посмотрела на Б. К., повернулась и ушла домой, хотя рабочий день еще не кончился. Шла пешком до вокзала и лениво думала: «Ну и что…».
Попались на глаза записки четырехлетней давности, еще в бытность моей работы в редакции. Давно забыты все эти волнения вокруг рукописей, авторов. За эти годы многое изменилось в моей жизни: умер отец, маму я перевезла в Академгородок и мы теперь с нею вместе. Рассталась я с журналом, работаю теперь на «тихом и спокойном» месте — редактирую рукописи в Институте истории. Ни волнений, ни хлопот: элементарная стилистическая правка. Мои знакомые считают, что я «великолепно устроилась»: тишь, гладь и даже ненормированный рабочий день, и работа дома — чего бы, казалось, лучше!.. Но скучаю без редакции, без тех, хоть и маленьких, «побед» в боях за авторов, стоящих против конъюнктурщиков. Не так много было этих «побед», но кое-какие были. И сейчас я радуюсь тому, что В. Распутина с его многострадальной повестью «Деньги для Марии» заметили, похвалили (недаром, значит, я «лезла на рожон» в ЛИТО). Напечатали в центральном журнале его очередную повесть, а затем пригласили в состав редакции нового молодежного журнала «Наш современник», где он и трудится теперь.