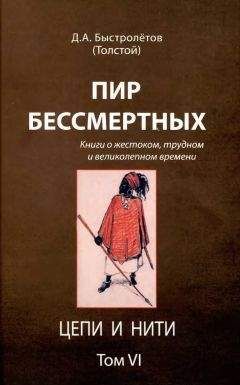Первые доклады прошли более или менее спокойно: слушателей собиралось мало, их состав был случайным, и устроители явно ощущали равнодушие и свою ненужность.
— Гм… мы похожи на платных болтунов из Армии Спасения, — бурчал ван Эгмонт, когда все четверо возвращались домой. — Плохо…
— Да, и здесь мы натыкаемся на равнодушие, которое не можем сломать, — ответила Адриенна.
— Это не то, что я ожидала, — заявила госпожа д’Антрэг. — Случайные прохожие — это не слушатели.
— А я неплохо отдохнул и освежился, — отозвался мсье Мандель. — Вопросов не задавали — это скверно, конечно. Но нужно пробовать дальше. Я предлагаю нацелиться на молодежь. Она живее, непосредственнее. Адриенна, друг мой, устройте-ка доклады в местах, где собирается студенчество: оно — наша надежда и наше будущее. Мы должны обратиться к учащейся молодежи!
Фашистские организации среди студенчества численно были слабы, как и всюду, а рабочая масса все смелее и все напористее противодействовала провокациям. Ретивые поклонники графа де ля Рока на своих боках проверили тяжесть рабочих кулаков и срывать рабочие собрания их не очень-то тянуло. Но студенческая среда — это другое дело: здесь слушатели — люди воспитанные, вежливые и пугливые. Здесь угрозы и дерзость могли произвести впечатление силы, тем более что позади ничтожной горстки буянов всегда можно было иметь наготове несколько полицейских, одна их форма в интеллигенте вызывает непреодолимое желание отступить и вытянуть руки по швам. Словом, срыв студенческого собрания — это вполне безопасное и выгодное предприятие, решили заправилы, и последующие доклады приобрели для устроителей неожиданный характер. К этому времени у лекторов уже был некоторый навык, и внешне их речи уже стали выглядеть как выступления заправских проповедников.
Эти мягкие по форме, хотя и вполне честные по принципиальному содержанию, доклады иногда вызывали град насмешливых вопросов и выкриков, а иногда просто нарастающую бурю протестов.
— Не понимаю, что сделалось с нашими студентами, — недоуменно разводил руками профессор. — Я вглядывался в толпу: самые обыкновенные молодые люди, прилично одетые, с культурными лицами… Такие же, каким был я сам когда-то… И вдруг этот настойчивый рев: «Национальность! Национальность!» — Когда я сказал, что я — еврей, то начались оглушительный хохот и свист… Откуда это? В Париже? Удивляюсь: ведь мы же не в Германии у Гитлера. Мы, слава Богу, во Франции… В чем дело? Ничего не понимаю!
— Какая-то девушка в течение всего доклада визжала: «Вы предали французскую нацию! Развод! Развод!» А высокий вполне приличного вида молодой человек, кстати, удивительно похожий на моего племянника Рене, даже плюнул в мою сторону и показал кулак. — Говорила Адриенна, широко открыв глаза. — Сплю я или это на самом деле?
— Вы слышали, как мне кричали: «Мсье Люонга! Мсье Люонга! Позор! В Сену! К черту! На фонарь!» — гремел ван Эгмонт. — Честное слово, мне кажется, что я в Берлине и сейчас тысяча девятьсот тридцать третий год. Французы сошли с ума!
Все четверо были растеряны, можно было ожидать всего, но не этого.
— Это пустяки! — успокоился, наконец, ученый. — Я все понял. Наша молодежь кокетничает гитлеровскими манерами, но этого задора у нее хватит ненадолго: французский народ разумен, а желание o'pater le bourgesis — это у нас всегда было и есть, это безобидное, хотя и глупое озорство! Неприличная и грубоватая, ветреная и всегда взбалмошная, но, по существу, вполне безобидная веселость (галльская пряная веселость. — Ред.). Чтобы не потакать ей, давайте прекратим доклады.
— Нет, — твердо сказала Адриенна. — Мы уже оповестили о времени и месте наших следующих выступлений. Это — не галльские озорники и весельчаки, это — подонки, сейчас отступать нельзя. Что вы скажете, мсье ван Эгмонт?
— Я — иностранец, — нехотя ответил художник. — Давайте говорить прямо и честно. Мсье Мандель несет денежные издержки и прикрывает своим именем мои выступления. Это благородно, я могу только принимать такую помощь, но не просить ее. Я могу переехать в Амстердам и продолжать бороться там.
— Вот и хорошо! — примирительно обратился к супруге мсье Мандель. — Вот все и устраивается.
Адриенна тряхнула головой.
— Нет, — проговорила она, — мы уже объявили о трех докладах, и они состоятся во что бы то ни стало. Мы можем сами прекратить свою деятельность, во Франции никто не смеет зажимать человеку рот. Мы продолжаем. Наша страна — знаменосец свободы и демократии!
Следующее выступление явилось новой неожиданностью: задолго до начала зал наполнился рабочей молодежью. Студенты явились с опозданием и были сами удивлены не менее устроителей. Визжавшая девушка, плевавшийся молодой человек и другие вожаки переглянулись между собой, пожали плечами, но решили повторить концерт. Однако едва они открыли рты, как мускулистые парни в грубых куртках разом поднялись с мест, скрутили скандалистам руки и вышвырнули их из зала. Подоспевшая полиция не посмела ввести смутьянов обратно, в зале царствовали порядок и тишина, придраться было не к чему. Полицейские заняли выходы и только.
Прерываемые подчеркнуто громкими аплодисментами лекторы благополучно довели собрание до конца и закрыли его под гром оваций слушателей и злобное ворчание полиции.
— Я опять ничего не понимаю, — сказала госпожа д’Антрэг.
— Черт побери! — рассердился бесконечно добродушный мсье Мандель. — Кто эти люди? Что это означает, я вас спрашиваю? Объявления адресованы студентам и расклеены в местах, где они живут, учатся и отдыхают. А здесь перед нами чинно сидели какие-то комбинезоны и заплатки. Чудеса! Откуда они появились в студенческом клубе?
— А овации? — сияла Адриенна. — Какие счастливые минуты! Нет, человеческое слово — великая сила!
— Рад. Несказанно рад, — коротко закончил ван Эгмонт.
На следующее собрание все четверо шли, гордо подняв головы, уверенные в себе и спокойные. Каково же было их удивление, когда они увидели, что все передние ряды стульев заняты прилично одетыми молодыми людьми и сзади на них напирает плотная масса молодых рабочих. Наряд полиции занял все входы и выходы. Все выглядело, как поле сражения перед началом боя.
— Слушайте, не лучше ли избежать скандала? — спросил шепотом профессор.
— Идеи требуют уважения к себе, мы должны поддерживать достоинство нашей свободы! Может быть, мне следует говорить первым? — спросил ван Эгмонт. — Мой нос чует запах жареного.
— Вы — иностранец, а я — француженка и женщина, — ответила Адриенна. — Я поведу собрание. Мы изменим порядок выступлений, все будет в порядке. Никто не может во Франции заткнуть рот честному человеку. Я это снова повторяю вам, мсье ван Эгмонт: я горжусь своей Родиной.