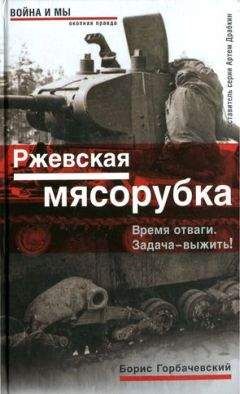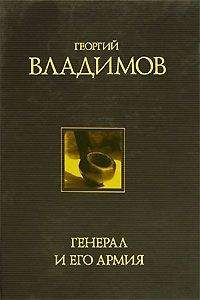"Если мы умерли так, как мы умерли, значит, с нашей родиной ничего не поделаешь, ни хорошего, ни плохого". - "И значит, мы ничего своей смертью не изменили в ней?" - спрашивал другой голос. "Ничего мы не изменили, но изменились сами". А другой голос возражал: "Мы не изменились, мы умерли. Это все, что могли мы сделать для родины. И успокойся на этом". - "Одни умерли для того, чтобы изменились другие". - "Пожалуй, это случилось. Они изменились. Но не слишком капитально..." - "А со мной, со мной что произошло?" - "А ты разве не знаешь? Ты - умер". - "Но я, - спросил он, - по крайней мере умер счастливым человеком?"
Никто ему не отвечал, и он больше ни о чем не спрашивал, он перестал мыслить, дышать, быть.
...Хочется верить, однако, что в тот далекий час, въезжая в расположение своей армии, все они четверо были счастливы.
Был счастлив генерал Кобрисов - тем, что Мырятинский плацдарм оказался самым красивым - и недорогим - решением Предславльской операции, и красоту эту оценили даже те, кто попытался скинуть его с Тридцать восьмой. Сбитый с коня и ставший пешкою, он все же ступил на последнее поле, и пусть-ка попробуют не признать эту пешку ферзем! И сердце его было полно солдатской благодарности Верховному, который его замысел разгадал и понял, что Мырятин был ключом не к одному Предславлю, но ко всей Правобережной Украине. И если так хочет Верховный, чтобы Предславль был взят именно к 7-му ноября, ну что же, он сделает все возможное, чтоб так оно и было. В конце концов, всем необходим праздник. Он думал об этом, проезжая по переправе, трясясь по пустынной рокаде, залитой серебряно-голубым светом, и видя далекие синие подфарники машины, на которой выехали его встречать.
Был счастлив ординарец Шестериков, что не придется коротать век без генерала, еще столько всего впереди у них, одной войны года на полтора, а еще же будет в их жизни Апрелевка, воспоминания о днях боевых, о том, как встретились, это уж без конца! Ну, а погибнуть придется - так вместе же.
Был счастлив адъютант Донской, наблюдавший визуально все тернии генеральской судьбины и пожелавший себе, чтоб миновала его чаша сия. Преисполнясь мудрости, он так себя и спросил: "Ну зачем, зачем тебе, Андрей Николаевич, эта головная боль!" И все чаще прикидывал он на слух, и все больше нравилось ему слово "адъютант". Что-то в нем слышалось энергичное, красивое, молодое.
И был счастлив водитель Сиротин, освободясь от своих страхов, что с этим генералом он войну не вытянет. С последней "рогатки", где они заночевали, он сумел-таки дозвониться до Зоечки, он сообщил ей маршрут и время прибытия - и мог быть спокоен за всех четверых. Они уже не были песчинкой, затерянной в бурном водовороте, всемогущая тайная служба распростерла над ними спасительные крыла - и никакой озноб, ни предчувствие, ни мысль о снаряде, готовом покинуть ствол, не мучили его в ту минуту, когда подвыпивший комбат, выстраивая "параллельный веер", скомандовал наводить в правый срез Луны, и грустный наводчик, подкручивая маховики, ловя в перекрестье молодой месяц, приникал натруженной бровью к резиновому оглазью панорамы.
1996
Москва - Niedernhausen