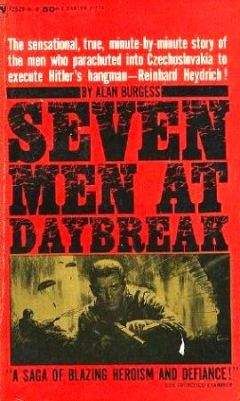«Тайм» резюмировал: «Эта пьеса — отголосок печальной убежденности О’Нила в том, что нет страшнее ада, чем человеческая семья».
Клайв Барнс отметил в «Нью-Йорк таймс»: «Вернувшаяся на бродвейскую сцену Ингрид Бергман так хороша, что сама является произведением искусства».
Ингрид все это не особенно волновало. Вхождение в мир Юджина О’Нила потребовало от нее столько сил и оказалось столь необычным, что чужое мнение об этой работе было не так уж и важно.
я встретила Карлотту, когда мы привезли пьесу в Нью-Йорк. Я считала, что она должна обязательно увидеть пьесу. «Нет, — последовал ответ. — Я никуда не выхожу. Мне нечего надеть, и я ничего не вижу». Это была правда. Она потеряла глаза, разбирая мелкий почерк О’Нила, и поэтому теперь носила очки с толстыми линзами. Я пыталась как-то порадовать ее — посылала ей цветы, небольшие подарки. Купила ей два платья, часто приходила к ней на чай. «Вы знаете, я не люблю женщин, — говорила она. — Не люблю. И не могу понять, почему так полюбила вас». Карлотта подарила мне фотографию, где она совсем еще юная и совершенно прелестная женщина. Показала мне книгу, уже изданную, в которой приводятся все тексты почтовых открыток, посланных ей О’Нилом. В большинстве из них он приносил свои извинения: «Прости меня, я был ужасен», «Не понимаю, как ты выносишь меня». Да, жить с ним было, очевидно, нелегко.
И вот она однажды наконец сказала, что попробует приехать в театр на дневной спектакль. Я заказала машину и попросила съездить за ней. С директором труппы мы договорились не устраивать никакой суматохи, а сделать так, чтобы Карлотта чувствовала себя спокойно. После спектакля привела ее за кулисы. По щекам Карлотты текли слезы.
— Я плохо вас видела, но зато хорошо слышала, — сказала она. — Ах, как бы мне хотелось, чтобы он слышал вас.
Она была просто чудесна. Это был последний раз, когда я ее видела. Она вернулась к себе домой, а вскоре после нашей встречи ее отправили в клинику для душевнобольных, где она и умерла.
с самого начала нашей совместной жизни мы с Ларсом не могли не признать, что не являемся нормальной супружеской парой. Он колесил по всему свету со своими спектаклями, а я то играла в Лондоне в «Месяце в деревне», то целый год занималась здоровьем Изабеллы, то, начиная с осени, полгода подряд работала в пьесе «Дворцы побогаче». Все это время нас связывали только телефон да переписка, хотя Лам и летал бесконечно в Лондон, и в Нью-Йорк, и в Голливуд. Но все-таки не было настоящей семейной жизни. Думаю, мы оба понимали это. Хотя, как мне кажется, еще не чувствовали приближающейся опасности.
Первой, прямо и откровенно, обратила на это внимание Лиана Ферри:
— Ингрид, твоя семейная жизнь ужасно напряжена. Ты уверена, что стоит так много работать?
— Уверена, — ответила я. — Это моя жизнь!
Но где-то подсознательно я уже почувствовала опасность. Почувствовала тогда, в Лондоне, когда возникла идея моего участия в «Месяце в деревне». Правда, в то время я часто виделась с Ларсом: он приезжал в Гилдфорд на премьеру, навещал меня в Лондоне. Иногда я вырывалась в Жуазель на уикенд. Обычно я вылетала в воскресенье утром и возвращалась в полдень понедельника. Но это превращалось в ужасную нервотрепку: погода во Франции и в Англии страшно вероломна, очередной туман мог сломать все мои планы. Тем более что мне вообще не разрешалось уезжать далеко: в контракте точно определялось расстояние, на которое я могу во время уикенда удаляться от Лондона. На меня могли подать в суд за нарушение контракта, особенно если бы я не вернулась в театр ко времени вечернего спектакля в понедельник. (Несколькими годами позже, в 1971-м, когда я играла в «Обращении капитана Брасбаунда», Бинки Бьюмонт прекрасно знал о моих полетах. Каждый понедельник часов около четырех дня у меня раздавался телефонный звонок. Я отзывалась: «Алло?» В ответ слышалось: «Слава богу». Трубку клали.)
Я обдумывала нашу ситуацию с большой тщательностью. Нужно было решать, что мне нужнее в жизни: сидеть в Жуазели, ожидая Ларса с работы, или приходить в театр и играть? Увы, я относилась к разряду «людей театра». Я знала, что, как только мне предложат следующую роль, я опять ухвачусь за нее.
Но что по-настоящему разбивало мое сердце, так это письма Ларса. В них постоянно звучало: «Я так одинок», «Ты всегда так далеко от меня, а это вовсе не весело — сидеть одному и ждать, когда ты вернешься», «Пожалуйста, останься со мною». При этом он прекрасно понимал, как я хотела работать. И потом, он сам много ездил; у него были труппы, выступающие в Германии, Швеции, Дании. Думаю, он бывал дома не больше недели, перед тем как снова куда-то уехать.
И тогда я оставалась одна в деревне, что было прекрасно, но очень тоскливо.
Когда в Нью-Йорке я заканчивала играть в «Дворцах», Кей Браун прислала мне роман Рэчел Мэддокс под названием «Прогулка в весну». Он мне очень понравился. «Как прекрасно, — подумала я, — получить наконец-то сюжет, где женщине — пятьдесят, ее мужу — пятьдесят два и она влюблена в человека еще старше».
Кей сказала, что книгой заинтересовался известный сценарист Стирлинг Силлифент. Он пришел ко мне побеседовать о романе. Нас обоих взволновала эта вещь. «Мне так хочется поставить фильм по этой книге, что я просто свихнусь, — сказал он мне. — Я никогда не занимался этим раньше, но теперь просто не вынесу, если она попадет в чужие руки».
Поскольку работа в «Дворцах» заканчивалась, я собиралась возвращаться во Францию, а потом вместе с Ларсом отправиться на остров. Я решила пригласить Стирлинга с женой к нам. Стирлинг не вылезал из лодки, удил рыбу, но дни проходили, а он не прикасался к сценарию. Наконец я не выдержала:
— Послушай, давай поговорим. Ты написал хоть что-нибудь?
— Ну, написал, — сказал он. — Но не набело. Мы можем изменить все, что захотим.
Он так и не написал весь сценарий. «Ты, наверное.
дошел до трудного места и остановился», — возмущалась я. Но к тому времени я уже успела полюбить его и была уверена, что он напишет хороший сценарий. Студия «Коламбиа» изъявила желание поставить фильм, а мы нашли место для натурных съемок.
Это был единственный фильм, запланированный на 1969 год.
Затем мы вернулись в Жуазель. Раздался телефонный звонок: Майк Франкович из Беверли-Хиллз.
— Ингрид, я приобрел права на экранизацию пьесы «Цветок кактуса» и очень хочу, чтобы ты играла в этом фильме.
Я долго молчала.
— Я заполучил Уолтера Матхау на роль дантиста, а Голди Хон будет играть его девушку.
—Угу.
— Я чувствую, ты колеблешься.
Конечно, он мог это почувствовать. В свое время, когда Бинки Бьюмонт просил сыграть меня эту роль в Лондоне, я прочитала пьесу. Но тогда я отказалась, мотивируя это тем, что не могу так долго находиться вдали от Ларса.