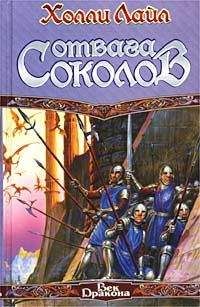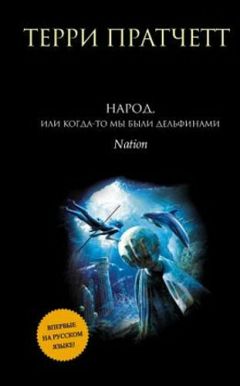- Нет, товарищи, - заговорил Гребенников так, чтобы слышали все. Этот позор мы не примем на себя. И если кому кажется, что он может таким образом уйти от смерти, то пусть попомнит: смерть не минует его...
Слова комиссара звучали как заклинание. Их приняли молча. Брели дальше медленно, гуськом, стараясь попасть след в след. Так идти легче. В ногу ведущего, в ногу товарища. А ощущение голода не унималось. И в голове пусто, даже пропадает память, и решительно ни о чем не думается, только о корке черствого хлеба...
- Братцы, а у меня лук есть! - неожиданно воскликнул Костров.
К нему устремили голодные глаза и долго чего-то ждали; казалось, никто не поверил или не понял, о чем он говорит.
- Лук у меня, ребята! - повторил Костров, держа на ладонях небольшие головки в оранжевом оперении.
Кто-то глотнул воздух и через силу спросил:
- Где ж ты раздобыл?
- А на огороде. В разведку ходили, накопал...
Головок оказалось мало - только четыре. Их тщательно порезали на одинаковые кусочки и разделили поровну. Лук был горький, острый запах бил в нос, по ели жадно, казалось, не было слаще этой крохотной, сочной дольки!
Думалось, хоть на время утихнет голод, но это же обман. И разве можно утолить себя перышками лука? Раздразнили желудки - только и всего.
Не прошло и пяти минут, как опять вспыхнуло, забило в виски ощущение голода. Уже невмоготу стоять, скорее бы лечь на землю и не вставать. А может, выйти на дорогу, и - где наша не пропадала! - идти прямо, никого и ничего не боясь, попросить у первого встречного кусок хлеба?
Но не подумал ли ты, боец, что лучше вот так - через муки, через голод, через зону оккупации идти, чем оказаться в лапах врага, в лагере военнопленных, за колючей проволокой? Не подумал ли и о том, что, когда нет хлеба, можно прожить и на воде, рвать дикие ягоды, есть молодые побеги елок, они и сейчас мягкие и зеленые, наконец, сосать березовую живицу, которая пахнет медом и полна соков не только весной, но и осенью, - всем, чем угодно, питаться, только не попасть в плен, только не стать живым трупом там, в лагере.
В конце концов, если уж так невтерпеж, то можно и рискнуть - зайти в деревню. Вон из-за леса виднеются избы, и к одной - крайней - овраг подбирается совсем близко. Почему бы не попробовать оврагом подойти к деревне, кто может увидеть, если, судя по звукам, дорога с немецкими машинами проходит на порядочном удалении?
Гребенников вздрогнул: вслух он говорил или только думал? Кажется, верно, думал вслух, потому что рядом идущий Алексей Костров скупо улыбнулся и кивнул в ответ.
В сумеречный час, надеясь в случае опасности укрыться в темноте, отряд разбился на две группы: одна осталась в лесу охранять завернутое в брезент знамя, другая - в ней были Гребенников и Костров - направилась к видневшимся на пригорке домам. Кругом было тихо. В крайней избе, что скособочилась над самым оврагом, калитка была на засове, сенная дверь тоже плотно закрыта, но по дымку из трубы нетрудно было догадаться, что в доме живут. Сюда-то и держали путь бойцы. Поднялись из оврага наверх, осмотрелись, потом пролезли под отодранную жердь в заборе, и, когда давно небритые, исхудалые, грязные, но в защитных гимнастерках, как есть свои, родные, встали у окна, тотчас на каменном пороге появилась босая, в расстегнутой кофте хозяйка. Она зазвала в избу и, перепуганная (как потом убедились бойцы, не их приходом, а постоянным ожиданием чего-то страшного), начала кормить, подавая на стол картошку, пареную свеклу, огурцы. И бойцы - да простит им хозяйка! - набросились на еду. Немытыми, заскорузлыми руками брали из чугунка свеклу, ели картошку прямо с кожурой, а хозяйка, как добрая мать, умеющая любить сыновей даже в пору, когда они приносят ей горе, стояла перед ними, глядя все так же испуганными, неподвижными глазами.
Солнце догорало в окнах. Солдаты ушли, не прощаясь и не обещая, что вернутся. И, быть может, все обошлось бы ладно, если бы сразу спустились в овраг, но - вот уж русская натура! - расслабили вожжи, дали волю чувствам; коль спокойно кругом, так почему бы не побывать в соседних домах? И заходили, собирали в дорогу картошку, неся ее в пилотках, краюхи кисловато пахнущего черного хлеба, а капитан-артиллерист даже тащил на спине полмешка муки. И это бы сошло, если бы, наконец, выходили из деревни не по стежке, которая спускалась к лесу за околицей, а напрямую в овраг. Но именно эта стежка заманила, на ней-то невесть откуда и появились немецкие автоматчики на мотоциклах.
- Хальт! Хальт! - раздались голоса.
Сбиваясь с ног, бойцы кинулись обратно в деревню. Подгоняемые треском автоматных очередей, перемахнули через забор и по мокрым, скользким картофельным бороздам сбегали, падали, ползли вниз, в овраг.
А стрельба свирепела, хлестали над головами пули. Позади всех, чтобы не оставить ни одного бойца, бежал Костров. Над самым обрывом он почувствовал, как что-то ударило в коленку. И, не владея собой, бросился с откоса, раза три перевернулся, прежде чем упасть плашмя на глину. Пытался встать, опереться на правую ногу - резкая боль обожгла тело. Рухнул наземь. Глянул: правая нога чудовищно подвернута пальцами к паху. Хотел крикнуть, позвать кого-то на помощь - голос пропал. Превозмогая боль, полз, хватался руками за бурьян, подтягивал тело и полз. А сверху подстегивали немецкие голоса, выстрелы. "Только бы не попасть раненым... в плен..." - вдруг подумал Алексей, холодея от ужаса. Решился: если подойдут немцы, последнюю пулю себе в лоб. В это мгновение кто-то подбежал:
- Давай, друг... Живее! - услышал он комиссара, присевшего на корточки, чтобы взять его на спину. И заломив его руки на свои плечи, комиссар понес Алексея. Понес тяжело через луг. По кочкам, по мокрой лежалой мочажине. Нес на виду у немцев. Под огнем. Алексей не терял сознания. Он слышал стрельбу. Пули секли воздух. Отрывисто вжикали справа, слева, над головой и, кажется, даже под ногами.
Грузно пыхтя, комиссар затащил Алексея в лес. Положил на край канавы. Немцы не бросились в погоню, наверное, побоялись.
Бледный, с перекошенным лицом Алексей лежал не шевелясь, только прерывисто дышал. Правая нога свисала с бровки канавы плетью. И какая адская боль! Его бросало то в жар, то в холод, и он глотал соленые капли пота. Каждый мускул, казалось, стонал от боли, шея болела, лицо стало грубым и непослушным, веки припухли, и не было сил открыть глаза. Свинцовой тяжестью навалились на него мрачные думы. "Жизни нет... Нет меня... Кому я нужен? Никому. Обуза... Лучше не быть в тягость другим. Лучше покончить с собой..." - лихорадочно твердил Алексей и нащупал рукой пистолет. Холодной тяжестью металла улегся он в пальцах...
- Что ты делаешь?! - комиссар с беспощадной резкостью схватил его за руку, отнял пистолет. Долго глядел на Кострова с укором, потом сказал почти шепотом: - У тебя будут дети. Слышишь, Алешка, дети...