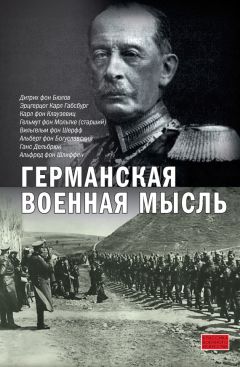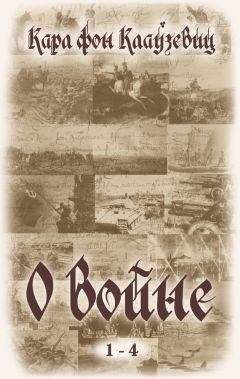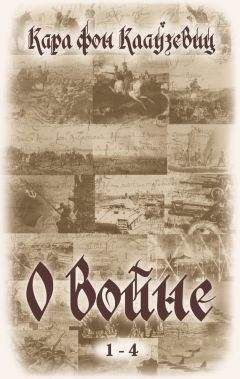Такую характеристику, скорее, можно бы отнести к французским полководцам в Семилетнюю войну. К Фридриху сравнение с стилем рококо может прилагаться, только чтобы подчеркнуть субъективную особенность его полководческой деятельности – полную противоположность всякой схематичности. Можно сказать, что его решениями никогда не руководила вытекающая из природы необходимость, а лишь свободная личная воля. Вместо того чтобы в 1757 г. начать обширное вторжение с нескольких сторон в Богемию, он мог бы держаться обороны и предоставить инициативу противнику. Он часто мог бы атаковать, когда он этого не делал; точно так же он мог бы воздержаться от атак при Ловозице, Цорндорфе, Кае и Кунерсдорфе. Формально то же, конечно, можно повторить и о наполеоновских решениях, но, по существу, последние определялись внутренним законом: логическая необходимость ведет Наполеона к цели.
Чем сильнее в каком-нибудь замысле субъективный момент, тем тяжелее ложится бремя ответственности и тем труднее принятие решения. Сам герой видит в своем решении не результат рациональной комбинации, а, как мы уже видели, вызов судьбе и случаю. И достаточно часто приговор судьбы гласил против него самого.
Но если в дерзости решений Фридриха проявлялось величие его характера, то оно должно было еще больше проявиться в стойкости, с которой он встречал обрушившиеся несчастья. Если сравнить Фридриха с последним его предшественником, принцем Евгением, то полководческая карьера прусского короля окажется изобилующей гораздо большим количеством превратностей: у принца Евгения видна известная жесткая последовательность развития, и часто протекают целые годы между моментами, когда оно заостряется до действительного величия; у Фридриха же на протяжении одного года мы находим четыре больших сражения – Прага, Колин, Росбах, Лейтен; перетерпеть эту смену побед и поражений – это достойно еще большей славы, чем сама победа. Нет никакого сомнения, что попытка взять в плен в Праге всю австрийскую армию вела к перенапряжению сил, а атака под Колином вдвое сильнейшей австрийской армии, занимавшей чрезвычайно выгодную позицию, являлась сумасшедше смелой. Но такого рода победы и поражения имели моральное значение, далеко выходящее за пределы военного успеха и почти что от него независимое. Отсюда вытекало то огромное почтение, которое король внушал неприятельским полководцам. Почему они столь редко использовали те благоприятные случаи, которые он им достаточно часто предоставлял? Они не осмеливались дерзать. Они считали его на все способным. Если величайшая осторожность в подходе к крупным решениям вообще лежит в существе двухполюсной стратегии, то эта осторожность, особенно у главного противника Фридриха, Дауна, разрасталась в боязливость, как только он встречал перед собой самого Фридриха.
Война – это шахматная игра; война – это борьба физических, интеллектуальных и моральных сил. Следя за походами Фердинанда Брауншвейгского против французских войск, можно заметить, что этот ученик фридриховской школы превосходил всех остальных исключительно потому, что обладал большим стратегическим мужеством; он противостоял опасности, перед которой пасовал его противник. Фердинанд располагал в 1759 году 67 000 человек против 100 000, а в 1760 г. – 82 000 человек против 140 000 и удержался. Решения имели меньший масштаб и сопровождались меньшими потерями, но в общем противоречия здесь оставались теми же, что и на главном театре войны, в борьбе Фридриха против австрийцев и русских.
Современники Фридриха, и во главе их его брат, принц Генрих, часто в самой резкой форме порицали короля за то, что он проливает излишнюю кровь; они уверяли, что его военное искусство состоит в том, чтобы вечно драться. Французский полковник Гибер хотел доказать (1772 г.), что он побеждал своими маршами, а не даваемыми сражениями. Новейшие писатели, наоборот, хотят видеть гений Фридриха в том, что он, и только он, из всех его современников, правильно оценивал природу сражения и надлежащим образом его применял. В сущности, король сам признал правоту современных ему критиков: он объявил своего брата Генриха единственным полководцем, не сделавшим ни одной ошибки; в последних кампаниях он отказался от принципа сражения; в своей истории Семилетней войны он признал метод Дауна хорошим. Мы также видели, что конечный результат Семилетней войны был обусловлен не исходом сражений. Если Фридрих не дал бы сражений при Праге, затем при Колине, а также при Цорндорфе и Кунерсдорфе, то он выдержал бы войну легче и лучше. Но это соображение весьма поверхностного порядка. Совершенно верно, что этих сражений можно было бы избежать и что их первоисточником являлась не деловая внутренняя необходимость, а личные настроения и субъективность полководца. Но Росбах и Лейте были во всяком случае необходимы; для полководца, принявшего оба эти решения, субъективную, но все же внутреннюю необходимость представляли и данные им сражения под Прагой, Колином, Цорндорфом и Кунерсдорфом. «Экипаж опрокинулся», – острил принц Генрих после поражения при Колине. Сравнение было бы правильным, если бы Пруссия после этого разгрома действительно пала и король не нашел в себе силы воспрянуть вновь. Но так как он имел в себе эту силу, то он не только не мог, а должен был описать предопределенный ему путь. Он не был бы самим собой, если бы не попытался подчинить себе судьбу. Может быть, с деловой точки зрения было бы ему и выгоднее уже вступить в Семилетнюю войну с той ограниченной программой стратегической обороны, которой он начал следовать начиная с 1759 г., но это было для него внутренне невозможно. Первоначально, в 1757 г., он ведь имел это в виду, но когда Винтерфельд развернул перед ним блестящие возможности наступательных успехов, он не мог устоять перед силой неземного очарования открывшихся перспектив и не должен был отступать перед ними. Это дает нам разгадку понимания не только самого Фридриха, но и противоречивых о нем суждений. В наивном представлении современников, видевших только геройство, Фридрих обожествлялся; критика его современников – специалистов – прокляла позднейшие военно-исторические труды; сознавали, правда, что проклятие являлось абсурдным, но отнесли свое признание фридриховского искусства к неправильной категории, отчего создались внутренние противоречия.
Фридрих пишет в введении к своей истории Семилетней войны, что необходимость иногда заставляла его искать решения в сражении. Теодор фон Бернгарди, наоборот, поучает нас, что необходимость заставила короля отказываться от сражений. Может ли быть что-нибудь более удивительным, чем то, что через сто лет после Фридриха прусский Генеральный штаб перестал понимать его стратегию, и, начав издавать, при обширном использовании первоисточников, громадный труд по фридриховским войнам, обнаружил после того, как работа уже сильно подвинулась и много томов было выпущено, что он исходил из ошибочного основного взгляда? Но, как это ни удивительно, это все же остается фактом, и к тому же имеющим естественные объяснения. Между историческим суждением и практическим применением искусства легко может возникнуть подобное разногласие.