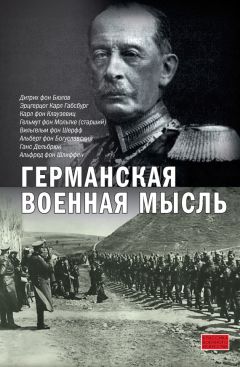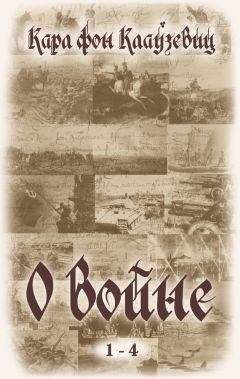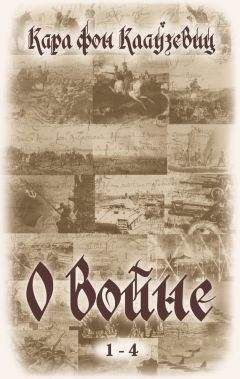В начале Семилетней войны Фридрих действовал совсем иначе. Первые месяцы 1756 г. обстановка уже вполне назрела; австрийцы еще не закончили вооружений, а русские и французы были еще далеко. Однако вместо того, чтобы как можно скорее нанести удар, Фридрих искусственно оттянул начало войны на конец августа. Если бы он был стратегом школы сокрушения, т. е. если бы ему это позволяли его средства, то мы должны были бы признать, что такой образ действий являлся самой тяжелой стратегической ошибкой во всей его военной карьере. Но так как даже при самых благоприятных обстоятельствах план полного сокрушения Австрии оставался для него недоступным, то он поступил правильно, ограничившись на этот год оккупацией Саксонии и начав ее настолько поздно, что французы признали уже невозможным помешать ему в этом.
Отсюда видно, насколько нецелесообразно действуют те, которые во имя вящего прославления Фридриха пытаются доказать, что в следующем, 1757, году сокрушение Австрии действительно входило в его план (сражение при Праге, осада Праги). Если бы этот план действительно был выполним в 1757 г., то насколько легче было бы его осуществить в 1756 г.! Образ действий Фридриха ясен и последователен лишь на фоне стратегии измора. Если же это так, то мы должны оценить эту завязку Семилетней войны в ее коренном противоречии к образу действий Наполеона в 1805 и 1806 гг. как прекраснейшее и плодотворнейшее свидетельство естественных противоречий между сущностью и принципами обоих существовавших в истории видов стратегии.
Продолжим тем же путем наше исследование.
В стратегии измора на первом плане событий стоят осады крепостей, воспрепятствование таковым и деблокирование их; у Фридриха это выражается менее сильно, чем у его предшественников, но все-таки достаточно сильно. Наполеон же за все свои кампании (помимо второстепенных операций) обложил только две крепости, Мантую в 1796 г. и Данциг в 1807 г.
И на обе эти осады он решился лишь потому, что с наличными силами в данный момент не мог ни развивать, ни продвигать дальше маневренную войну против неприятельских войск. В стратегии сокрушения осаждают лишь в том случае, если осады никак нельзя избежать, будь то даже неприятельская столица, как Париж в 1870 г., или крепость, в которой заперта целая неприятельская армия, как Мец в 1870 г., или же осада представляет только второстепенную операцию. А для Фридриха взятие крепости, как Нейссе (1741), Прага, Ольмюц, Швейдниц (1762), часто является истинной целью всей кампании.
Поучение Фридриха ясно: «Если вы попадаете в страну, в которой имеется много укрепленных пунктов, то захватывайте их все и ни одного не оставляйте позади себя; лишь тогда вы будете методично продвигаться вперед и можете не опасаться за свой тыл».
Если бы союзники придерживались этого фридриховского принципа при вторжении во Францию в 1814 г., им никогда бы не удалось низложить Наполеона.
Фридрих строил каналы и пользовался водными путями не только для торгового движения, но и для довольствия войск. Наполеон строил шоссе; движение в его ведении войны было на первом плане.
По выражению, к которому часто прибегал сам Фридрих, сражение есть «рвотное средство», которое дается больному. «Мне не оставалось ничего другого», – часто писал он, когда хотел оправдать свое решение дать сражение. Последнее является для него вопросом, обращенным к судьбе, вызовом случайности, не поддающейся учету и определяющей исход. Наполеон же говорит нам, что у него был принцип – никогда не вступать в сражение, не имея 70 шансов из 100 на победу. Если бы Фридрих держался этого принципа, то он едва ли мог бы разыграть хотя бы одно сражение. Происхождение этого различия отнюдь нельзя видеть в сравнительной смелости обоих полководцев: оно коренится в различиях самих систем: если бы стратег школы сокрушения рассматривал сражение как приводящее к случайному исходу, то вся война для него была бы комбинацией случайностей, так как в его представлении все решения даются сражениями. В стратегии же измора сражение является лишь одним моментом из числа многих других, и исход его может быть вновь сбалансирован. Фридрих писал однажды, проектируя сражение, что даже в случае его проигрыша положение, по-видимому, не станет хуже, чем было до того. В устах Наполеона подобная мысль была бы непонятна и невозможна. В его глазах проигранное или выигранное сражение при любых обстоятельствах меняло всю обстановку самым коренным образом. Пруссия могла перетерпеть Кунерсдорф, но не Йену. Мы видели, насколько Фридрих ограничивал приложение на практике правила, столь часто провозглашаемого, о том, что к сражению надо притягивать все наличные силы. Наполеон же действительно осуществлял это правило, хотя, конечно, и для него оно являлось не абсолютным. 15 ноября 1805 г. он писал Мармону: «Мне приписывают несколько больше таланта, чем другим, и все-таки мне всегда кажется, что у меня недостаточно войск, чтобы дать сражение противнику, которого я привык бить; я подтягиваю к себе все, что только могу собрать».
Фридрих придерживался принципа – проектировать возможно более обширный план, о котором он сам себе заранее говорил, что при исполнении он сморщится. Он постоянно возвращался к этому принципу. «Обширные планы кампаний, – значится в политическом завещании 1768 г., – бесспорно, являются наилучшими, так как при их проведении в жизнь сразу выясняется, что невыполнимо, и, ограничиваясь выполнимым, все же достигается большее, чем при наличии скромного плана, который никогда не может дать ничего великого». «Такие большие планы не всегда бывают успешны; но если они удаются, то они решают войну». «Составьте четыре такого рода проекта, и если один из них удастся, то вы уже будете вознаграждены за все труды». Если сравнить первоначальные проекты Фридриха с его последующим образом действий, то создается впечатление, будто его энергия не была на высоте его стратегических идей. Но это грубейшее заблуждение. Он совершенно сознательно сначала составлял планы, далеко выходящие за пределы возможного, чтобы ни в коем случае не задержаться, не достигнув пределов доступного. Жестокая действительность устанавливает эту границу; он знал, что она не упустит этого сделать и хотел дойти до нее. Следовательно, его стратегические идеи могут рассматриваться и расцениваться лишь с соответственной оговоркой. О Наполеоне же можно сказать как раз обратное. Его планы при выполнении не только не съеживались, но скорее разрастались. Он говорит о самом себе: «В мире не существует более малодушного человека, чем я, когда мне приходится составлять план кампании, я представляю себе все опасности в преувеличенном виде и рисую себе все в возможно черном свете; я нахожусь всегда при этом в мучительном возбуждении. Правда, это не мешает мне казаться окружающим совершенно бодрым. Но если я уже принял решение, то я забываю все и думаю лишь о том, что могло бы способствовать его удаче».