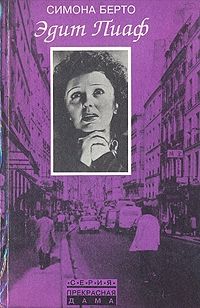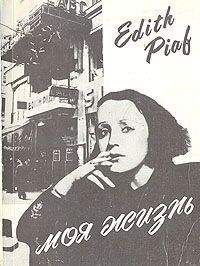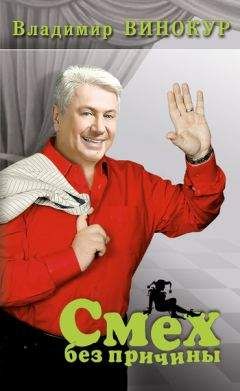— Может быть, вам не известно, что сегодня утром Эдит позвала меня. Она сказала мне: «Приезжай, Момона!»
Тогда Тео произнес в своей обычной спокойной манере в стиле «Вы, кажется, забыли, что муж — я»:
— Если Эдит хотела вас видеть, Симона, я пойду скажу ей, что вы здесь.
В наступившей тишине было слышно, как Бонели скребли по дну кастрюльки, в которой тушился их кролик.
Тео вернулся радостный.
— Пойдемте скорее, она вас ждет.
Все удивились, хотя удивляться было нечему. Все было нормально, как должно было быть. Трудность состояла лишь в том, чтобы сообщить Эдит, что я приехала.
Я не помню, как выглядела лестница, но на дверь я посмотрела и запомнила руку Тео, когда он взялся за ручку двери: он не поворачивал ее… хотел мне что-то сказать. Очень тихо он спросил:
— Вы, кажется, не видели ее несколько месяцев?
— В последний раз незадолго до вашей свадьбы. Я была больна. Мы перезванивались.
— Она очень изменилась, Симона. Не покажите ей этого.
Когда он толкнул дверь, я поняла.
У нее почти не осталось волос. На слишком круглом лице не было ничего, кроме огромных глаз и рта, который казался разбитым…
Я улыбнулась. Точнее, постаралась улыбнуться, как делала всегда в течение нашей жизни; в ответ на эту улыбку Эдит мне всегда говорила: «Ты стойкий солдатик».
— О, моя Момона, как я рада! Я ждала тебя только в понедельник!
Я не моргнула глазом.
— Выяснилось, что в понедельник у меня другие дела, вот я и приехала раньше.
— Ты хорошо сделала.
Тео вышел. Он еще и тактичен! Этот парень обладал всеми достоинствами!
— Момона, как ты его находишь? Хорош, а!
— Не то слово, Эдит.
Не для этого ли она меня вызвала? Я знала их всех, она еще раз захотела узнать мое мнение.
— Ты меня понимаешь, правда?
— Ода!
— Я изменилась? Нет, нет, не стоит притворяться. Знаешь, быть тряпичной куклой в чужих руках — даже ласковых — очень тяжело. Дни и ночи тянутся долго, у меня достаточно времени для размышлений. Я делала в жизни не просто глупости, я часто многое губила: свою любовь, здоровье. Тео я не заслужила, но я его получила, так вот я думаю, это знак прощения. Правда, Момона?
К горлу у меня подступили рыдания, это было ужасно. К счастью, она переменила тему. Она улыбалась, она была рада моему приезду. Я была единственной, с кем она могла говорить о своей молодости, об отце, о дочери, о Луи-Малыше… Я была свидетелем ее жизни. «А помнишь?..»
Вдруг перед нами предстала вся наша молодость. Живые, нетерпеливые воспоминания теснились, кишели, как мышата в гнезде.
Эдит больше не выглядела жалкой больной, которой все безразлично. Она жила. Она уже не походила на умирающую, продолжающую дышать только потому, что сердце еще бьется. Она снова стала Эдит Пиаф, которой была всегда. Уютно устроившись в подушках, почти сидя, с порозовевшими щеками, блестящими глазами, Эдит смеялась!
Лишь ее бедные изуродованные руки, без конца перебиравшие простыню, напоминали о том, что конец близок.
Я не могла на них смотреть.
— Момона, как хорошо, что ты здесь. Мою сестру милосердия зовут так же, как тебя. Когда я ее зову, мне иногда кажется, что ты здесь и сейчас войдешь ко мне…
Я подумала: «Сейчас, в который раз, она обвинит меня в том, что я от нее сбегаю». Я как в воду глядела.
— Сейчас, конечно, не время об этом говорить, но я так никогда, видно, не пойму, почему ты меня бросила.
Я расхохоталась, Эдит также. Как приятно было слышать ее смех! Но она смеялась не так, как прежде, громовыми раскатами; теперь ее смех больше соответствовал ее облику — надтреснутый и слабый.
«Не больше десяти минут», — сказала сестра. Они уже давно прошли. В комнату вошел Тео. Он посмотрел на Эдит, потом на меня. Я обрадовалась, увидев, как озарилось его лицо.
— Я уже давно не видел Эдит такой…
Он смотрел на нас, пытаясь понять наши отношения.
— Можно мне остаться с вами?
— Конечно, — ответила Эдит. Ты никогда не будешь лишним. А если начнешь надоедать, мы перейдем в ванную! Правда, Момона?
Этого он не понял. Откуда ему было знать…
— Но, Эдит, тебе ведь нельзя вставать!
Эдит продолжала смеяться.
— Тебе не понять… Момона, объясни ему. Расскажи ему нашу жизнь.
Как верная собака он вытянулся на полу возле ее кровати. Так он и останется навсегда в моей памяти: преданный пес с глазами, полными любви, которые отказывались видеть очевидное, то, что я поняла сразу: наступал конец… Занавес опускался. Эдит настолько приучила его к чудесам, что он перестал воспринимать реальность. Эдит могла не спать эту ночь, если это ей доставляло удовольствие, ничто больше не имело значения…
И мы с головокружительной быстротой начали вновь проживать забытое прошлое. Воспоминания детства, юности — мы выкладывали все перед Тео без стеснения, до того ли нам было! Перебивая друг друга, мы нагромождали все в кучу. Сами для себя отбирали нужное, Тео не мог за нами поспеть. Минувшее воскресло, все кружилось и кипело, как во время гулянья на Пигаль.
Она говорила: «А помнишь наших морячков, наших котов, легионера, Луи-Малыша, папу Лепле?..»
«А помнишь?..» Все наши фразы начинались так. Только в эту ночь Эдит была предельно искренна. Она не стеснялась говорить: «В тот день я тебя обманула…» или «Я не должна была этого делать…» Она видела все так ясно, что мне становилось страшно.
Мысли летели, как в вихре кружилось наше прошлое и настоящее, и перед моим неотрывным взглядом вместо лица больной женщины для меня одной и, быть может, еще для Тео возникло лицо Великой Пиаф, каким оно было на вершине славы.
Ей хотелось говорить, она порозовела, сна не было ни в одном глазу.
— Такую ночь, дети мои, забыть нельзя! Я буду помнить о ней и в раю!
Слушая нас, Тео открывал для себя незнакомую ему до сих пор Эдит. Меня порадовало, что она говорила только о своем детстве, юности и о настоящем времени. В эту ночь Эдит связывала начало и конец своей жизни прочно, навсегда…
Ей хотелось объяснить Тео, какой была ее молодость, прожитая со мной. Он тем временем протирал ей одеколоном лицо, причесывал ее, обмывал руки. Ему уже не удавалось разогнуть ее скрюченных пальцев.
При одном воспоминании о том, как эти руки жили в ее песнях, в свете прожекторов, слезы наворачивались на глаза. Ее основная, привычная поза — руки, прижатые к бедрам, почти к животу, выделяющиеся на черном платье: казалось, они одновременно ласкают и просят прощения. Этот жест, повторенный тысячи раз, она теперь пыталась повторить на простыне. Ее руки искали свое место.