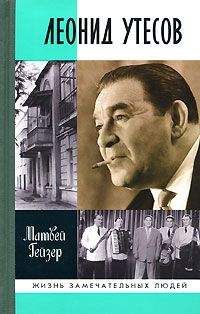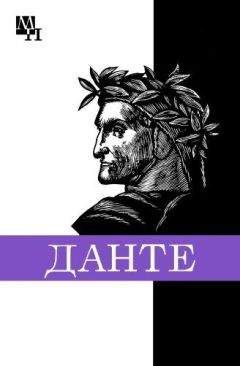Тот же феномен острой тоски по воображаемой родине, на которой лирический герой не был никогда, выражен в известной среднему поколению «культовой» песне «Наутилуса Помпилиуса» на слова В. Г. Бутусова — «Прощальное письмо»:
Когда умолкнут все песни,
Которых я не знаю,
В терпком воздухе крикнет
Последний мой бумажный пароход.
Good‑bye, Америка, о,
Где я не был никогда.
Прощай навсегда.
Возьми банджо,
Сыграй мне на прощанье.
Мне стали слишком малы
Твои тертые джинсы.
Нас так долго учили
Любить твои запретные плоды.
Good‑bye, Америка, о,
Где я не буду никогда.
Услышу ли песню,
Которую запомню навсегда.
Наконец, для демонстрации полного разнообразия жанров — и полного единообразия ностальгии — вспомним известнейший современный «шансон» И. Л. Кучина «Чикаго»:
Глухая тайга. Лесосплав полным ходом,
Бревно за бревном, день за днем, год за годом.
Напарник из новых, весь светит насквозь,
Под вышкой ходил, но, увы, не сбылось.
Принес он свои золотые пятнадцать,
Держался за них, все потел, надрывался
И я, наблюдая, как он метит дни:
Земляк, — говорю, — покури, отдохни!
А он, доходяга, ответил неясно:
Ты не был в Чикаго? Ну и напрасно!
Когда нормы нету, когда не погодит,
То каждый с ума всяк по — своему сходит.
Кто пьет, кто дерется, а этот — того,
Какой‑то ущербный… Мне жалко его.
Глядит в небеса, взгляд дурной с поволокой,
Морока мне с ним, ведь гляди в оба ока:
Сорвался багор, покатился волан…
Эй, прыгай! — кричу, — оглоушит, болван!
А он, доходяга, сказал вновь неясно:
Ты не был в Чикаго? Ну и напрасно!
В бараке лежим. Я стараюсь помягче.
Спросил о семье. Он лежит, глаза прячет.
Дела, — говорю, — знать, не важны, браток?
Ну, хочешь, заочницы дам адресок?
От сердца даю, от души отрываю,
Шеф — повар столовой, по имени — Рая.
Напишешь — полюбит. Вернешься — возьмет,
И жизнь у тебя, как по маслу, пойдет!
А он, доходяга, заладил и баста:
Ты не был в Чикаго? Ну и напрасно!
Я вижу — дойдет, не дотянет до снега.
И я то да се ему, вплоть до побега.
И время убил, и не смог ничего,
И, в общем, оставил в покое его.
А нынче сказали: его задавило,
Но дышит еще… Я к нему, что есть силы.
Прибег, говорю: Доконал ты меня!
Неделю мне снится Чикага твоя!
И он, бедолага, чуть слышно, печально:
Ты видел Чикаго? Ну, как там, нормально?..
Ставить эти тексты в один ряд можно только в одном случае: если мы совершенно оставим в стороне эстетическую сторону дела и будем рассматривать их исключительно как выражение ностальгии по невиданному.
Иными словами, мы поступим так, как поступил Карл Ясперс: он посмотрел на ностальгию не как на источник поэтического творчества, а как на болезнь, способную привести к преступлению.
Все приведенные тексты получили огромную известность в России: каждый из них известен десяткам миллионов людей. Разумеется, причиной тому — не их поэтические достоинства как таковые, а психологически точное выражение ностальгии, характерной для экзистенциализма.
Чем тягостнее и бессмысленнее окрестный лесоповал, тем ярче краски внутреннего Зурбагана — как бы он ни назывался и каким бы он ни рисовался человеку, и тем сильнее желание уничтожить «до основанья» ту пошлую реальность, которая заслоняет этот волшебный, сверкающий мир.
Мир подлинный и мир неподлинный: необходимость коррекции сказок
Как мы уже успели заметить, экзистенциалист знает два мира, подлинный и неподлинный. Мир подлинный (или собственный) сотворен самим человеком исключительно по собственному выбору. В нем человек — единственный демиург. Мир неподлинный (или несобственный) сотворен другими и навязан человеку.
Разница между экзистенциалистом и реалистом заключается в том, что реалист заранее признает второстепенность подлинного мира, а экзистенциалист — второстепенность мира неподлинного. Говоря проще, реалист заранее готов признать неподлинный мир свинцовым, несокрушимым, необходимым (то есть таким, что обойти его и уклониться от него невозможно). Именно к такому миру, именуемому объективной реальностью, и следует приспосабливаться, всячески ограничивая своеволие и сводя к минимуму мир собственный, подлинный.
Напротив, экзистенциалист не считает неподлинный мир несокрушимым и непреодолимым. Да, до определенной поры этот неподлинный мир владеет сознанием образованного человека (то есть такого человека, который был ранее безобразен и получил свой образ благодаря обществу, наложившему на него свой отпечаток). Но со временем, под влиянием определенных факторов, о которых мы еще будем говорить позднее, навязанный человеку мир отторгается. Вначале он вызывает отвращение и тоску, а затем — тошноту, заставляющую осуществлять Великий Отказ от него. Мечта о подлинном, собственном мире у экзистенциалиста оказывается настолько сильной, что она способна зачеркивать, ничтожить в душе то, что принято именовать реальностью. У Ж. — П. Сартра это выражено формулой: «Человек — это место, где Ничто вторгается в мир».
Вначале появляется отвращение к неподлинному — к какому‑нибудь Ольденбургу или к деревне Гадюкино, в которых постоянно идут дожди, — и оно зачеркивает для человека эти гнусные места, а затем на их место в душе входит подлинный мир мечты, подлинная внутренняя родина экзистенциалиста, которую он изо всех сил пытается утвердить и в создаваемом им внешнем мире.
Но если это так, то фантазия для экзистенциалиста имеет ничуть не меньшую силу, чем реальность, реальность, данная в опыте. Мечта может зачеркнуть реальность. Если это так, то всякое слово экзистенциалиста нужно проверять: описывает ли он еще реальность или уже фантазию?
Море…
Сразу же надо спросить: это реальное, географическое море, которое К. Ясперс видел лишь изредка, или созданное его фантазией море, у которого он жил постоянно?
Не нужно ли нам задать точно такой же вопрос и о родителях, которых описывает К. Ясперс?
Это реальные родители, или родители, которыми их хотел бы видеть экзистенциалист К. Ясперс?