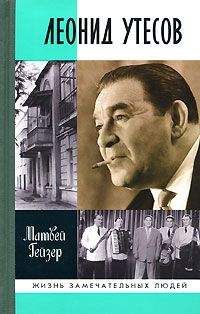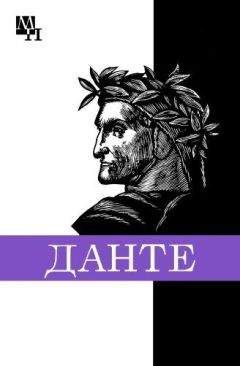Вначале появляется отвращение к неподлинному — к какому‑нибудь Ольденбургу или к деревне Гадюкино, в которых постоянно идут дожди, — и оно зачеркивает для человека эти гнусные места, а затем на их место в душе входит подлинный мир мечты, подлинная внутренняя родина экзистенциалиста, которую он изо всех сил пытается утвердить и в создаваемом им внешнем мире.
Но если это так, то фантазия для экзистенциалиста имеет ничуть не меньшую силу, чем реальность, реальность, данная в опыте. Мечта может зачеркнуть реальность. Если это так, то всякое слово экзистенциалиста нужно проверять: описывает ли он еще реальность или уже фантазию?
Море…
Сразу же надо спросить: это реальное, географическое море, которое К. Ясперс видел лишь изредка, или созданное его фантазией море, у которого он жил постоянно?
Не нужно ли нам задать точно такой же вопрос и о родителях, которых описывает К. Ясперс?
Это реальные родители, или родители, которыми их хотел бы видеть экзистенциалист К. Ясперс?
Едва ли такое разделение может четко провести любой из людей: его внутренний образ родителей всегда представляет собой сплав реальности, данной в опыте, и фантазий.
Но мы, ставящие своей задачей создание понимающей истории философии, просто обязаны произвести коррекцию экзистенциалистских фантазий. Их вовсе не следует заменять реалиями, чтобы понять философа — как мы видели, нам нужен для такого понимания образ моря, существующий в душе мыслителя, а вовсе не описание географических данностей.
Будь на нашем месте позитивист, он просто назвал бы море Ясперса вымыслом, тогда как это море было для мыслителя влиятельной внутренней реальностью.
Но, как мы убедились, эта внутренняя реальность была сотворена фантазией достаточно произвольно…
А люди, которые живут вокруг этого созданного фантазией моря?
Насколько произвольно сотворяются они? Вопрос не праздный.
Мы уже познакомились с портретами предков, которые нарисовал К. Ясперс.
Насколько эти портреты были плодом его фантазии?
Если на месте К. Ясперса был бы А. Грин, мы не задавали бы этого вопроса.
И Грэй, и Ассоль, и все прочие — нереальны.
Но ведь Ясперс никогда не пытался выступать в роли сочинителя.
Он писал собственную автобиографию, а не биографию вымышленного героя.
Он был врачом — по образованию и по первой профессии. Он переживал, он мыслил и чувствовал, как экзистенциалист. Но при этом он постоянно наблюдал за собой как врач. Иногда он увлекался, уходя в фантазии.
Тогда ему помогали вернуться на твердую землю коллеги.
Об одном из них — психоаналитике — мы уже упомянули вскользь.
Послушаем теперь, что говорит о нем сам К. Ясперс.
«В 1937 году, когда меня лишили профессуры, я написал для своих родителей о своем происхождении, родительском доме, детстве. Неопубликованную рукопись я дал прочесть одному своему другу, психоаналитику. Он вернул мне ее со словами: “Это — картина, нарисованная по золоту; такого отца и такого сына не бывает”. Происхождение моей силы — в том, что такой отец был»[38].
Здесь можно заметить, как в К. Ясперсе борются экзистенциалист и врач.
Врачебная наука, основанная на опыте, говорит, что таких отцов не бывает. Как вообще не бывает людей, состоящих из одних достоинств.
К. Ясперс знает это — как врач.
И все же он настаивает на том, что такой «золотой» отец у него был.
Мы, конечно, не вчера родились на свет. Мы понимаем, при каких обстоятельствах были написаны мемуары К. Ясперса. В 1937 году ему уже исполнилось 54 года. В этом возрасте человек уже прекрасно понимает, что объективной истины не существует. Так называется мнение, которое желают тебе навязать. Сам ты, как субъект, обладаешь только субъективной истиной. А вот другие субъекты по какой‑то причине обладают не субъективной, а объективной истиной. (Очевидно, потому, что они «сгрудились в партию», как говаривал В. В. Маяковский, или вещают от имени отдела кадров, который есть представительство империи в жизни каждого человека). К тому же за пять с лишним десятилетий жизни человек успел увидеть, как часто менялась незыблемая «объективная истина» — с каждым приходом к власти новых субъектов.
В общем, после пятидесяти люди — если они, конечно, не настоящие, профессиональные историки, для которых честность есть квалификационный признак, — перестают стесняться и выдают за истину то, что они считают таковой в данный момент.
Применительно к нашему случаю это надо понимать так: я пишу свою автобиографию такой, какой мне хотелось бы ее видеть, и людей, сыгравших в моей жизни значительную роль, я рисую такими, какими они мне сейчас представляются. (Мне нет нужды проверять, насколько эти представления соответствуют представлениям других, ведь не проверяю же я путем опроса, действительно ли моя любимая женщина — самая прекрасная на свете).
Принять во внимание надо и еще одно: в 1937 году мемуары пишет человек, который отстранен от преподавания и не имеет возможности печататься, человек, которого ждет концлагерь. Он пишет мемуары как прощальное письмо. В таких письмах редко присутствует холодная объективность.
Наконец, воспоминания пишутся — прежде всего! — для своих стареньких родителей. Они будут первыми читателями. Понятно, что К. Ясперс постарался избавить их от изложения своих детских претензий и обид, которые обычно и называются «неприкрытой правдой», написав о родителях только приятные для них вещи.
Да и вообще: состояние полной незащищенности в годы нацистского правления просто не может не наводить на ностальгические воспоминания о славных годах в родительском доме, где К. Ясперс чувствовал себя как за каменной стеной.
И все же К. Ясперс не полностью победил в себе врача. Голос друга — психоаналитика (а существовал ли он вообще?) — это голос самого Ясперса, читающего собственные мемуары.
Если присмотреться к деталям и частностям воспоминаний, а тем более — к сохранившимся письмам и к тому, что ускользнуло от внутренней цензуры в мемуарах, то образы родителей оказываются вовсе не такими сусальными.
Образ матери у К. Ясперса получился значительно более противоречивым и неоднозначным, чем образ отца. Это говорит о том, что с матерью юный Карл общался больше, чем с отцом. Фантазия рисует образ цельным и непротиворечивым. Наблюдения, наоборот, бывают разнообразными — ведь, как замечал Гераклит, нельзя застать никого из смертных в одном состоянии дважды. Потому человек, с которым ты общался долго и тесно, неизбежно представляется тебе разнообразным, противоречивым, неоднозначным. Такое разнообразие и изобилие впечатлений никак не желают вписываться в единый и цельный образ, специально выстраиваемый для мемуаров.