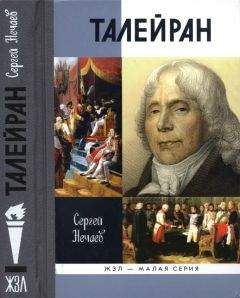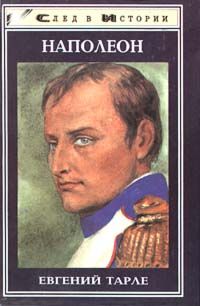Могут спросить: неужели на общее направление европейских дел в самом деле оказывали влияние эти взятки и подкупы? Конечно, нет. Не требовалось обладать умом и хитростью Талейрана, чтобы понять, что, например, если генерал Бонапарт завоевал Италию, то никак нельзя заставить ни Директорию, ни генерала вдруг великодушно освободить из когтей свою добычу. Или если Франция требует от Испании помощи флотом в борьбе против Англии, то ни за что французское правительство от этого требования не откажется. Талейран знал, что даже простая его попытка советовать своему правительству явно невыгодные для Франции действия может для него кончиться в лучшем случае немедленным увольнением, а в худшем случае — казнью. Он никогда и не делал и не пытался делать таких нелепых и отчаянных вещей. Он брал взятки лишь за снисходительную редакцию каких-либо второстепенных или третьестепенных пунктов договоров, соглашений, протоколов; за пропуск в той или иной ноте слишком точной и жесткой формулировки; за обещание «содействия» по вопросу, по которому, как он знал, и без его содействия дело уже решено верховной властью Франции в принципе благоприятно для его просителя. Ему платили за ускорение каких-нибудь реализаций; за то, чтобы на три месяца раньше эвакуировать территорию, которую Франция уже согласилась эвакуировать; за то, чтобы на полгода раньше получить субсидию, которую Франция уже обещала дать, и так далее.
Вильям Питт (гравюра Аликса с рис. Хикеля).
С точки зрения психологической любопытно отметить, что Талейран желал обнаруживать — и обнаруживал — суровую этику в своих делах со взяткодателями: если взял — исполни; если не можешь — возврати взятку. Например, когда Наполеон, стоя зимним лагерем в Варшаве, приказал Талейрану в январе 1807 года приготовить проект восстановления самостоятельной Польши, то министр тотчас же потребовал от польских магнатов четыре миллиона флоринов золотом. Они устроили складчину, сколотили поспешно четыре миллиона и в срок доставили. Талейран обещал зато уж в самом деле сделать дело старательно и на совесть. И действительно, он подал императору доклад, в котором с глубоким чувством писал о непростительной ошибке Франции, допустившей некогда разделы Польши, и о провиденциальной обязанности его величества восстановить несчастную страну. Но дело повернулось так, что Наполеон, вступив спустя полгода в Тильзите в союз с Александром I, не смог сделать для поляков то, что раньше в самом деле собирался было сделать. Тогда Талейран возвратил четыре миллиона. Правда, этот героический жест мог быть объяснен также страхом, что обиженные и обманутые поляки доведут обо всем до сведения императора. Могли выйти неприятности…
Во всяком случае, Талейран осторожно и умно обделывал эти темные дела и прежде всего никогда не делал даже отдаленной попытки влиять на ход событий в основном и сколько-нибудь важном в ущерб французским политическим интересам. Но при всяком удобном дипломатическом случае он ухитрялся сорвать со своих контрагентов более или менее округленную сумму. Иногда (на первых порах) дело доходило, впрочем, и до скандала; это бывало, когда князю Талейрану случалось нарваться на людей, еще сравнительно недавно приобщенных к старой европейской цивилизации. Так, например, в 1798 году произошла следующая неприятная история. В Париже (еще с осени 1797 года) сидели специальные американские уполномоченные, прибывшие для исходатайствования законно причитающихся американским судовладельцам денежных сумм. Талейран тянул дело, подсылая своих агентов, которые, объясняясь по-английски, заявили туго соображавшим американцам, что министр хотел бы предварительно получить от них «сладенькое», the sweetness так они перевели «les douceurs». «Сладенькое» потребовалось в таких несоответственно огромных размерах, что терпение американское лопнуло. Не только делегаты обратились с формальной жалобой к президенту Соединенных Штатов, своему прямому начальнику, но и сам президент Адамc (в послании к конгрессу) повторил эти обвинения. Американские представители укоризненно вспомнили по этому случаю недавнюю эмиграцию Талейрана. «Этот человек, по отношению к которому мы проявили самое благожелательное гостеприимство, он и есть тот министр французского правительства, к которому мы явились, прося только справедливости. И этот неблагодарный наш гость, этот епископ, отрекшийся от своего бога, не поколебался вымогать у нас пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на „сладенькое“, the sweetness, пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на удовлетворение своих пороков».
Скандал получился неимоверный. Все это было напечатано. Талейран ответил небрежно и свысока, сославшись на каких-то неведомых обманщиков и на «неопытность» американских уполномоченных. Затем поспешил удовлетворить их требования, уже махнув рукою на «сладенькое». Но эти неприятности у него были только с такими неуклюжими, упрямыми дикарями от Миссисипи и Скалистых гор. Европейцы были гораздо терпеливее и избегали скандалов. Да и положение их было опаснее: их не охранял от Франции Атлантический океан.
Одновременно с быстрым наживанием огромных сумм Талейрана озабочивали и другие вопросы. Он тогда не хотел возвращения Бурбонов, потому что если и не боялся «колесования», которым ему грозили эмигранты, то все же понимал, как невыгодна и даже опасна для него реставрация. Поэтому, когда буржуазная реакция стала частично принимать форму реставрационных мечтаний, он очень приветствовал событие 18 фрюктидора — внезапный арест роялистов и ссылку их и разгром роялистской партии. Ему нужна была другая форма этой реакции, — ему нужна была монархия или даже диктатура, но без Бурбонов, то-есть ему нужно было то же, что было или казалось нужно в тот момент «новым богачам» и новым земельным собственникам, всей новой буржуазии: строй, который предохранял бы их не только от Бабефа, не только от прериальцев, но и от нового Робеспьера, и который в то же время делал бы невозможной попытку реставрировать дореволюционные социально-экономические порядки.
Прериаль, III год революции (23 мая 1795 г.). Восстание в Сент-Антуанском предместье (Рис. Жирарде).
И все внимательнее и льстивее, все почтительнее и сердечнее делались талейрановские деловые письма к воевавшему за Альпами молодому генералу. Талейран ему уже в 1797 и 1798 годах писал не как министр генералу, командующему одною из нескольких армий республики, а скорее как верноподданный, влюбленный в своего монарха. Он один из первых предугадал Бонапарта и понял, что это не просто победоносный рубака, а что-то гораздо более сложное и сильное. Он понял, что этот человек посильнее «адвокатов» и что следует поэтому заблаговременно прикрепить свою утлую ладью к этому выплывающему на простор большому кораблю. Тут уместно было бы сказать хоть несколько слов для общей характеристики отношений Талейрана к Наполеону, тем более, что значительная часть его мемуаров касается именно эпохи наполеоновского единодержавия. Конечно, собственные заявления Талейрана можно тут оставить в стороне: они дают понятие только о том, в каком свете ему хотелось бы представить свои отношения к императору, — и больше ничего не дают. Вглядимся в факты и наблюдения посторонних лиц.