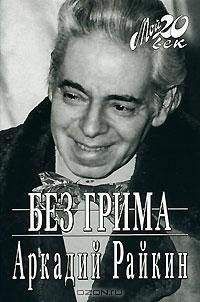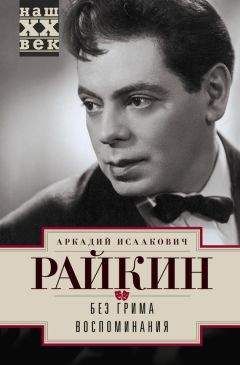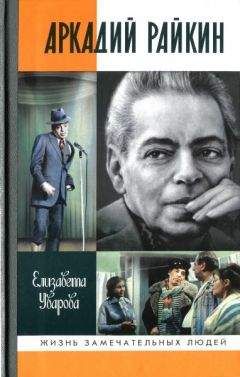— Ой,— сказал он,— говорят, вы стали актером?
Несколько удивившись, почему он со мной на «вы», я вдруг ощутил прилив большого уважения к собственной персоне и тоном знаменитости, уставшей от поклонников, подтвердил, что я действительно актер. Актер, а не какой- нибудь там...
Он почему-то очень обрадовался этому сообщению, наговорил кучу комплиментов по поводу моих успехов еще в школьной самодеятельности и собрался выходить.
— Ну а вы чем занимаетесь? — спросил я из вежливости, точно исключая возможность, что этот маленький Яша может заниматься чем-нибудь интересным.
— Физикой,— ответил он скромно.— Если вы помните, я всегда любил физику.
Я про себя посочувствовал ему: надо же, какая тоска!
В то время Якову Борисовичу было чуть больше тридцати, но он уже успел стать членом-корреспондентом Академии наук СССР, автором глобальных научных открытий. Обо всем этом я понятия не имел. Но вспоминая потом встречу в трамвае, не раз задумывался о преимуществах скромности.
Из своих одноклассников, к сожалению, помню немногих. Например, Сойкина. Его звали Арик. Он был сыном знаменитого издателя, который еще до революции начал выпускать журнал «Вокруг света». В те годы, когда мы с Ариком учились в школе, Сойкин-отец, напутствуемый А. В. Луначарским, принимал активное участие в становлении советского издательского дела.
Помню Толю Жевержеева, чей отец был также известным деятелем культуры, основал Ленинградский театральный музей и театральную библиотеку. Кроме того, он субсидировал кабаре под экстравагантным названием «Баба-яга». Это кабаре, между прочим, помещалось на Троицкой улице, там, где теперь Малый драматический театр.
Учился я с племянником композитора Е. Б. Вильбушевича, который был постоянным аккомпаниатором артиста Александринского театра Николая Николаевича Ходотова, настоящего «фрачного героя», выступавшего уже в советское время в концертах с мелодекламациями. Ясно вижу себя у них дома (они жили на противоположной стороне Троицкой улицы): стены увешаны афишами и фотографиями с дарственными надписями знаменитых артистов, комнаты уставлены цветами и даже лавровыми венками, подаренными Вильбушевичу на концертах.
— Это все дядино,— с гордостью говорил Володя.
Впрочем, наверное, я не случайно запомнил эту картину. Всяческие предметы артистической жизни были для меня по-особому значительны, по-особому волновали. Ведь уже в седьмом-восьмом классе я знал, или, вернее сказать, предчувствовал, что буду артистом, либо... шут его знает кем.
Помню Шуру Миллера, с которым я сидел на одной парте. В свободное время мы развлекались игрой в угадывание: по внешности человека, его поведению старались определить профессию.
Большинство моих соучеников стерлись из памяти. Точнее, я помню их зрительно или по фамилии, но об их судьбах почти ничего не знаю.
Но вот судьба, которая мне известна. Был среди нас мальчик, которого мы ласково называли Левушкой. Рано лишившись родителей (они погибли в результате несчастного случая), он жил у своей тетки в Павловске. Каждый день Левушке приходилось вставать затемно, чтобы вовремя добраться до школы. Но он никогда не жаловался на это, да и вообще мне трудно представить, чтобы он на что-нибудь жаловался. Левушка, как почти все наши ребята, был склонен к точным наукам, и, очевидно, по этой причине Петровская школа так ему нравилась, что он и не думал о переводе в другую, поближе к дому. Судя по всему, условия для домашних занятий были у него далеко не идеальными, но все это восполнялось его старательностью и вдумчивостью. Вообще, несмотря на свой кроткий вид, он производил впечатление внутренне сильного, целеустремленного парня. Казалось, он знает, а если не знает, то ищет какую-то тайну, делиться которой совершенно не намерен ни с кем.
После школы Левушка поступил в химико-технологический институт, проучился там два или три года, но, видимо, убедившись, что в инженерии он не найдет того, что необходимо его душе, пошел учиться снова — в медицинский.
В 1940 году, получив диплом хирурга, он отправился воевать с белофиннами. Отечественную войну — с первого и до последнего дня — провел у операционного стола во фронтовых госпиталях. Был награжден боевыми орденами и медалями. Демобилизовался... и опять пошел учиться. В духовную семинарию. Семинарию он окончил с отличием, потом окончил духовную академию, тоже с отличием, и его оставили в академии преподавать. Теперь он архиепископ.
Мы с ним до сих пор поддерживаем добрые отношения. Я нахожу его интереснейшим собеседником. Он посещает театры, концерты, интересуется книжными новинками и обладает, на мой взгляд, тонким чувством юмора.
Как-то раз он пригласил меня в церковь послушать его проповедь. Говорил он прекрасно. Он говорил о людях, погибших на войне, и о том, какую ответственность несут все живущие перед их памятью.
Я слушал его и думал, сколь действенным может быть слово, обращенное с кафедры к людям, и как мы безбожно транжирим слова, которые произносим со сцены, забываем, что сцена — та же кафедра.
Да, выбор, сделанный Левушкой, вероятно, нетипичен. Но я хотел бы подчеркнуть, что для него этот выбор явился результатом глубокого потрясения, отзвуком тех тяжелейших испытаний, которые нашему поколению довелось пережить.
Вернемся, однако, в Петровскую школу.
Трояновский был верным рыцарем физики и педагогики, но любовь к ним ослепляла его.
Когда его дочь Елена Викторовна изъявила желание стать актрисой, он категорически воспротивился. Не то что был противником театра вообще или исходил из прагматических соображений, как мой отец в подобном конфликте. Просто не мог смириться с мыслью, что дочь пойдет не по его стопам, что семейная традиция заглохнет. И потребовал от нее прежде всего закончить педагогический институт, а уж потом, если захочет, пусть стремится к театральному поприщу. Елена Викторовна не посмела его ослушаться и, получив диплом преподавателя, некоторое время вела физику у нас в классе.
Все мы чувствовали, что учительствовать ей скучно. Однако это не означает, что на ее уроках было скучно нам. То были самые веселые, самые легкомысленные уроки!
Приходя в класс непосредственно из отцовской квартиры, она не чувствовала себя неудобно оттого, что на ней был домашний халатик, облегавший стройную фигуру. Замечу, что наружность ее была весьма привлекательна.
Объясняя закон, допустим, Бойля — Мариотта, она могла взбивать в чашке гоголь-моголь, который иной раз, не дожидаясь звонка на перемену, предлагала отведать в знак поощрения за остроумие и находчивость: эти качества она ценила в нас больше, нежели прочность знаний.