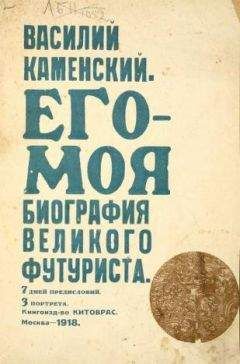Дальше.
В Москве я вступил членом театрального бюро под псевдонимом Васильковский.
Помпа-Лирский устроил меня на зимний сезон к Леонову в Тамбов на вторые роли, а на лето предложил мне служить у него в товариществе на марках.
Я ясно непонимал, что это за марки такие, однако рыцарски согласился,
Мы — артисты — человек двадцать выехали во главе с Помпа-Лирским в Новызыбков, Черниговской губернии.
Имя актера Васильковского появилось в афишах — я возгордился.
Заказал визитные карточки, ходил в убийственном рыжем костюме или в сюртуке, брови, глаза подводил, носил много брелоков, колец, гулял на публике.
Отчаянно нравился евреечкам — гимназисткам — они кричали мило:
— Ай шейне, ай мишигинэ копф.
Играл хорошие роли и был вроде управляющего — составлял афиши, программы.
Брал разрешенья.
Сначало дела шли гладко.
Летний театр в саду слегка наполнялся.
Актеры: Цветков, Травин, Юматов, Гурко, Качурин, Помпа-Лирский, я — Васильковский, — пользовались успехом.
А как пошли дожди — все провалилось.
Никаких марок нестало — делить нечего и есть-пить нечего.
Начались скандалы.
Целый день — солнце, а как вечер — перед спектаклем — проливной дождь.
В один из таких дождливых вечеров перед немного собравшейся публикой мы — почти все артисты — уже загримированные — залезли в оркестр, схватили кто какие попало инструменты и под дирижерством Помпа-Лирскаго стали играть марш.
Во истину это было торжество какофонии — с горя да досады.
Я бил сумасшедше в барабан.
Публика спрашивала:
— Ну и что это значит
Потом труппа разделилась на две части и одна — верная Помпе-Лирскому — к которому принадлежал я — решила ехать в Клинцы и Стародуб.
Перед отъездом мы — обе части учинили драку из-за театрального имущества и стали лупить друг друга корневищами с землей (выдергивали из огородов) от подсолнечников по башкам.
Помпа-Лирский вскочил на извозчика и размахивая палкой обратился к публике вокруг:
— Православные христиане.
Речь успеха неимела.
Помпа-Лирский забыл, что нас окружало еврейское населенье.
Всех посадили в участок в одну кутузку — на нары: тут мы примирились
В Клинцах и Стародубе дела поправились.
На Зимний сезон я уехал служить в антрепризу Леонова в Тамбов.
Там дело было солидное, серьезное.
Из талантливых помню: П. И. Чардынина, Аксагарского, Соколова, Новского, Славянову, Аненскую, Мравина, Неметти.
П. И. Чардынина вспоминаю особенно благодарно: он писал въ газетах и производил культурное впечатленье.
В Тамбове с другом Новским увлеклись водочкой и впервые по земному женщинами.
Но то и другое скоро бросили: стало противно.
Я всегда предпочитал иное опьяненье, иные соблазны.
Восходяще во мне Поэт в пламенных фантазиях заклинал меня оставить актерство — эту бутафорскую жизнь, уехать куда нибудь далеко в горы, к морю, к весенним возможностям, к песням, к чудесам во славу расцветной молодости.
Хотелось жить легендой.
Затеять рыцарское
Совершить что нибудь удивительное, большое, вольнотворческое — дальше.
Ведь вся жизнь была в моей воле — в моих руках — в моих силах — надо только было неошибиться, непропасть, незгинуть зря.
Приближалась весна — кончался сезон.
Уехал в Москву.
К Апрелю (1902) все мы — артисты труппы Дарьяловой, законтрактованные в Театральном Бюро, из Москвы съехались в Севастополь.
Из товарищей помню талантливыхъ: Тамарова Мишу [ныне часто выступает на экране]. Ватина, Яновскаго [внука Гоголя], яркую М. Юрьеву.
Я — под своим псевдонимом — Васильковский.
Дело провалилось.
Приехал знаменитый М. М. Петипа на гастроли — неспас, запировал, уехалъ: на что мы ему.
Труппа стала голодать.
Среди малочисленной публики в ложе гимназисток я начал замечать одну — неземную, с глазами будто друга, и узналъ, что ее зовутъ Наташей Гольденберг.
К маю труппа разъехалась.
Я один остался, полюбивший в первый раз рыцарски беззаветно, огненно, священно.
Я даже не смел подумать как нибудь подойти познакомиться: этого хотел Поэт.
Он в пламенно-юношеских мечтах вознес Наташу на нездешнюю высоту любви и стал писать повесть — в форме дневника — под заглавьем Наташа Севастопольская.
Глаза мая на море цвели бирюзовно до изумрудности.
Он проводил дни на приморском бульваре у самой воды на камнях — на солнце.
Лениво кричали качаясь чайки.
Корабли проходили виденьями важно-безшумно.
Где-то в порту громыхало железо.
Около играли дети, бросали в воду.
Поэт жил стихами — повестью о любви.
Вечером на бульваре — симфонический, Наташа, возможность познакомиться.
А я так жить не мог: мне нужны стали деньги, заработок.
Я нашел два великолепных урока — у директора банка Ф. А. Таци [занимался с гимназистом Костей] и у купца Д. Сотскова [с мальчиком Алешей и институткой Женей — по русскому — теория словесности] — эти две семьи отнеслись ко мне дружески светло и тепло.
После актерской голодовки я ожил, поправился, повеселел, разошелся, прифрантился.
Нашел еще урок — и зажил во всю колокольню.
И так широко, что Поэт согласился написать Наташе единственное большое письмо, полное земных желаний познакомиться ближе.
Я верил искренно в успех и ждал дружеского ответа: ведь она при встречах улыбалась радостно, призывно, обещающе.
Однако ничего Наташа неответила: какое ей дело до любви Его и моей.
С актером Васильковским в рыжем пальто вероятно шокингом считалось знакомиться благородным девушкам.
Стыдно стало за большее письмо к Наташе — Поэту и мне.
И нестерпимо больно встречать ее гордую.
Но Поэт неосуждал — Он только отчаянно загрустил, да такъ загрустил, что целые Ночи напролет просиживалъ в ночных турецких кофейнях за чорным кофе и плакал горячо, глубинно, одиноко.
А на рассвете ходил мимо дома ее и мученски страдая спрашивал:
— За что.
Он перестал писать повесть о любви.
Однако встречи с Наташей остро волновали — Ему еще верилось в ответность — Он ждал, горел, любил.
Напрасно.
Капитан торгового корабля — сыну которого я давал уроки — предложил мне на рейс прокатиться в Турцию, по берегам в Трапезунд и Константинополь.
Поэт встрепенулся — я бросилъ уроки.
Корабль вместе с товарами увез печаль Его к босфорским берегам.