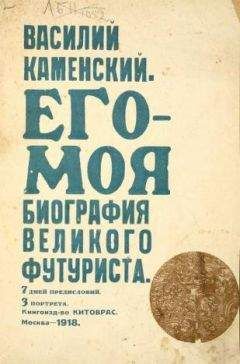Дорогой я пытаюсь уговорить конвойных и жандармов дать мне возможность сбежать — напрасно.
Ну что-ж.
Дальше.
Тюрьма.
Январь 1906.
Реакция — чорный террор — царизм.
Николаевская тюрьма (Верхотурскаго у-около Нижней Туры) знаменита уголовными и политическими знаменитостями.
Там побывали многие из теперь здравствующих во славу Свободы.
Меня замуровали в одиночную камеру № 16 — все одиночки в подвале, глухие, узкие, с маленькими высоко оконцами, с привинченными к стене койками, в углах параши.
Начальники — зверье — палачи.
Надзиратели — собаки цепные.
Истинная кровопийственная николаевщина.
Арестантов бьют по лицу палками, шашками плашмя, карцеры заполнены, в канцелярии тюрьмы большой царский портрет.
И вот в такой обстановке потянулись дни вечности.
Кормят отвратительно, гулять по дворику отпускают 6 минут в день.
Мысли в больной голове заживопогребеннаго, забытаго.
А еще так недавно верилось в подобное шествие революции.
И свежи были в снах светлые голоса товарищей рабочих, говорящих свято-призывно.
Пробужденье под звонок в 5 ч. утра угнетало,
Еще ведь 3 часа горели лампы до света.
Шли недели, а потом и месяцы.
Смутные известия с воли рисовали картину чорного пира палачей среди висилиц.
Реакция торжествовала.
Подходила весна — март.
У меня выросла большая рыжая борода.
Иногда я делал гимнастику.
Появились вновь арестованные и с ними книги: Маркс, Каутские, Луначарский, Чернов, Пешехонов, Герцен, Крапоткин.
Все эти книги мне передавались хитростями на улице в снегу и даже газеты.
Я зачитывался.
Стал усердно изучать французский и делал переводы: матерьял был с собой.
В апреле на пасхе меня посетили — сестра Маруся и тетя Саша — свиданье длилось 15 минут.
Потом прилетели птицы — принесли тепло, песни
Поэт вдруг всколыхнулся, посветлел, ожил, расправился.
Будто Он почуял Волю: начал писать стихи.
Привезли в тюрьму еще кого —
Снег от солнца растает —
Развейся судьба алошелково
Все равно Весна расцветает.
Давайте в небо взглянем
Довольно святой кротости
Эй рабочие — крестьяне
Бунтуйте во имя Молодости.
Мне тоже хотелось верить в освобожденье, но причин небыло.
Однако прошел и Апрель. Поэт неунывал — писал стихи. Я же стал нервничать: май слишком был май и нехотелось сидеть.
В средних числах вдруг по всей тюрьме среди политических объявили голодовку товарищескую.
Начали голодать — день, два, три.
Это был протест против избиенья в одиночке крестьянина — депутата администрацией.
Голодать было трудно первый день и второй а потом ничего.
Больные лекарства выбросили.
Наехали власти из Перми.
И тогда многих освободили и в том числе меня, но с обязательством постояннаго надзора полиции и невыезда из Нижняго-Тагила: меня освидетельствовали и признали здоровье скверным — поэтому только уволили.
Я дал массу всяких подписок о невыезде (в тюрьме), а как только доехал под надзором до Н-Тагила — то ночью же ловко скрылся в товарный поезд до Перми.
Там на пароход и укатил в Крым — в родной Севастополь — дальше.
Через неделю тюрьма казалась идиотским сном, кошмарной черной болезнью.
Будто я сорвался с висилицы.
Поэт сиял и прыгал на берегу моря.
Снова майское море, ленивые под солнцем чайки, корабли, дельфины, высокий воздух, ялики.
Снова я на берегу приморского бульвара, на камнях.
Набираюсь приливного света — здоровья, а здоровье сильно убавилось.
Внушаю себе декоративные радости, преувеличиваю красоту.
Прохожу мимо пустого дома Наташи — их нет — давно уехали совсем.
И все стало не то — чужое, одинокое.
Схожусь с флотскими революционерами.
Дружу с лейтенантом А. Кусковым, другом лейтенанта Шмидта.
А. Кусков — уже исключенный от службы — накануне ссылки в Сибирь.
Мечтаю о поездке в Константинополь еще раз и Кусков устраивает у знакомого капитана торгового корабля.
Снова Константинополь.
Корабль стоит 4 дня в гавани и я успеваю по по прежнему восторгаться византийским очарованьем, фескоголовой, яркоцветной толпой, встречаю на базаре семейство диких, одежды которых растенья, а у девочки на груди пустой кокосовый орех и там живет змея.
Из кофейни в кофейню перебегаю: всюду масса интересного.
Покупаю кальян старинный эмалево-стеклянный с кожаной кишкой — на память.
Капитану нравится, что я умею писать стихи и хорошо читаю.
Он устраивает мне торговую поездку в Персию — в Тавриз — Тегеран за шолком.
Еду туда — в царство ковров.
И вижу дивные реки Джагату и Аджи-чай, озеро Урмию, караваны верблюдов.
Встречаюсь с Персидскими революционерами меджелиса.
Покупаю в Тегеране на базаре несколько старинных вещей на память.
Возвращаюсь Каспийским морем, Волгой до Нижняго Новгорода — дальше.
Оттуда в Петербург.
Месяц готовлюсь к экзамену на аттестат зрелости, сдаю в василеостровской гимназии, поступаю на высшие сельскохозяйственные курсы и одновременно слушаю лекции в университете, на естественном.
Курсы основали профессора университета (Адамов, Каракаш) и здесь работали пожалуй интенсивнее.
Студенты курсов выбрали меня от эсеров старшиной.
А в девятой аудитории университета по вечерам партийные дела.
Началась студенческая жизнь.
Мои богатые двоюродные братья Александр Петрович и Петр Петрович Каменские и — после — Марья Викторовна Вабинцева (Из Перми, сестра Августы — впоследствии жены) — слегка помогали.
На курсах дружу с товарищами Колей Косач и его сестрой Марусей.
Потом и вся семья Косач — еще Петя, Вера и врач — генерал — все становятся друзьями: здесь я провожу лучшее время, живу светло, культурно, радостно.
Маруся кончала филологический, чутко была подготовлена к новой литературе и несомненно влияла на мое самолюбие печатающего Поэта в истинную сторону.
Я полюбил Марусю.
Мы стали кристальными друзьями.
В неразлучности духовной и земной дружбы, мы обрели право называться сильными детьми своей вольной Современности, мы без берегов радовались приливающим дням во имя своего гордого сознанья культурности
Грядущее обещало нам победное торжество.
Нас закалял в борьбе царящий тогда чорный террор — мы много работали, учились.