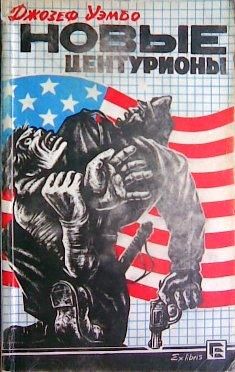по очереди.
Филипп Эсклавье преуспел во втором задании, которое выполнил самостоятельно, но его арестовали ещё до того, как он смог приступить к третьему.
Его сбросили со старшим сержантом Бёденом. Немцы, узнавшие об операции, ждали их на земле. Бёдену, приземлившемуся в ручей, удалось спастись, но Филиппу застегнули наручники на запястьях раньше, чем он успел сбросить парашют и выхватить револьвер.
Он был немедленно доставлен в префектуру Ренна и предстал перед гестапо. После пыток его депортировали в лагерь Маутхаузен.
В его бараке жил тощий маленький еврей без семьи и родины, который встал на сторону коммунистов ради хоть какой-то защиты. Именно это и спасло его от газовой камеры. Его звали Мишель Вайль. Коммунистическая организация в лагере поручила ему добыть информацию о новоприбывшем.
— Он агент «Свободной Франции» из Лондона, который был сброшен с парашютом, — однажды вечером доложил Вайль ответственному за этот конкретный отсек в бараке — некоему Фурне.
— Тогда его вполне можно оставить в списке отряда, который отправляется на соляные копи.
Вайль предупредил новичка. Тогда Эсклавье отправился к Фурнье и сказал ему, что он сын профессора из Народного фронта.
Фурнье был потрясён. Имя Эсклавье всё ещё пользовалось большой славой среди левых и радикально-левых сил. Но чтобы не показать своего удивления, он ответил:
— Социалисты — партия мягкой буржуазии. Если вы хотите, чтобы мы вам помогли, вам нужно вступить в наши ряды, в коммунисты.
Филипп Эсклавье согласился на это, и его имя было вычеркнуто из списка. Но, пока длился его плен, он продолжал служить коммунистам, которые составляли единственную эффективную иерархию в лагере.
То, что от него требовали, иногда противоречило всем правилам общепринятой морали. Как коммунист он мог считать себя свободным от грехов по причине высших интересов дела, за которое боролся. Но он никогда не был коммунистом, он обманывал только для того, чтобы выжить; всё, чем он был — грязным ублюдком.
* * *
Резкий скрипучий голос Буафёраса вернул его в долину Мыонг-Фанг:
— Замечтался, Эсклавье? Не следует пленному искать убежища в прошлом. Он теряет хватку и волю к жизни. Пойдём, я покажу тебе, где мы обретаемся.
Эсклавье и вновь прибывшие добрались до хижин и опустились на бамбуковые койки. Все облегчённо вздохнули. Там было сухо, чисто и тепло.
Когда вошёл Эсклавье, де Глатиньи приподнялся на локтях.
«Эй, — сказал он сам себе, — а вот и эта гордая скотина без своего кинжала и длинноствольного кольта… и на этот раз без Распеги».
Эсклавье узнал де Глатиньи. Он слегка согнулся в поясе с показной элегантностью светского человека.
— Эй, а вот и вы, мой милый друг. Как поживает главнокомандующий? И его дочь, славная девушка Мартина?
Де Глатиньи подумал, что рано или поздно ему придётся врезать Эсклавье по физиономии, но момент сейчас едва ли подходящий. Однажды вечером в Сайгоне он всё-таки чуть было не сделал этого, когда помешал Мартине, дочери генерала, пойти с капитаном. Эсклавье заставил бы её слишком много выпить и, может быть, отвёл в опиумный притон, потом переспал бы с ней, а на следующее утро рассмеялся в лицо, как великовозрастное хулиганьё, каким он и был.
Де Глатиньи плюхнулся обратно на койку, а Эсклавье подошёл и лёг рядом.
— И всё же я удивился, — продолжал парашютист, — если не сказать, изумился, что ты приехал сюда и присоединился к нам.
— Это значит, что?..
— Это значит, что ты не просто штабная марионетка или дуэнья этой милой Мартины, но ещё и…
— Да?
— Но ещё и, возможно… офицер…
Эсклавье вскочил на ноги и пошёл за Лескюром, который стоял неподвижно с пустыми глазами и болтающимися руками.
С бесконечной осторожностью, если не сказать нежностью, Эсклавье уложил его и подложил под голову вещмешок.
— Он буйнопомешанный, — сказал он. — Ему повезло — не понимает, что французская армия была разбита горсткой жёлтых карликов из-за глупости и бездействия её руководства. И ты сам, Глатиньи, должно быть почувствовал это так сильно, что бросил их и присоединился к нам, готовый посвятить себя нашему обществу.
Лескюр резко сел и, вытянув руку, начал бормотать:
— Вот они идут, вот они идут, все зелёные, как гусеницы! Они кишат повсюду, они нас сожрут! Быстрее, чёрт возьми, — цыплят, уток… И раз уж вы об этом, почему бы не взять куропаток, дроздов, фазанов и зайцев. Мы должны пустить в ход всё, что у нас есть, чтобы раздавить гусениц, которые собираются проглотить весь огромный мир!
Сразу после этого он заснул, и его лицо снова стало лицом мечтательного, незрелого юноши, который любил Моцарта и поэтов-символистов. И из глубины его безумия до него донеслись первые такты «Маленькой ночной серенады».
* * *
Дневной свет преобразил абсурдный, враждебный мир прошлой ночи, и запах горячего риса витал в неподвижном утреннем воздухе. Пленные, которых сейчас насчитывалось около тридцати, собрались вокруг корзины из плетёного бамбука, наполненной белоснежным рисом, нежно дымящимся на солнце. В пустые жестянки из-под солонины им налили немного чаю, но это был просто настой из листьев гуавы. Теперь, когда их желудки так сильно сжались, несколько горстей риса было достаточно, чтобы утолить голод.
Бо-дои ели тот же самый рис и пили тот же самый чай. Казалось, они забыли о своей победе, чтобы сообща участвовать в этом предначальном ритуале. Солнце в оловянно-сером небе поднималось всё выше и выше, слепящий свет становился мучительным, жара удушающей. Где-то вдалеке отбомбился самолёт.
— Война всё ещё идёт, — с удовлетворением заметил Пиньер.
Своей большой ручищей он продолжал давить москитов на поросшей рыжими клочками груди. Он посмотрел на часового, будто страстно хотел его задушить — эта тощая шея была искушением… Война всё ещё продолжалась.
Бессознательно бо-дои напряглись и возобновили неприветливое отношение; утреннее перемирие подошло к концу.
Лакомб отошёл с большой пригоршней риса, завёрнутой в банановый лист, пытаясь припрятать её. Толчком локтя Эсклавье заставил его уронить рис, который упал в грязь.
— Это мой рис, если на то пошло, — заныл Лакомб.
— Постарайся в будущем вести себя прилично.
Часовой сердито двинулся на капитана парашютистов, подняв приклад винтовки, чтобы ударить его, но сдержался — лозунг политики милосердия остановил его как раз вовремя. Тогда он обратил внимание остальных солдат на рассыпанный рис и что-то яростно затараторил. Эсклавье понял, что он говорит что-то о колониализме и народном рисе.
Де Глатиньи не мог не восхищаться своим товарищем за попытку навязать группе определённую норму поведения.
Затем он снова погрузился в свои сны наяву и попытался вспомнить: он был пленником уже два дня, так что сейчас 8 мая. Что