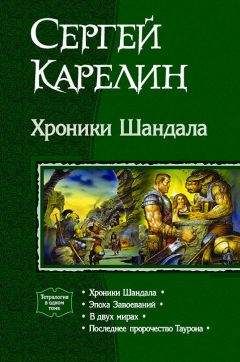Чистота и порядок мужские, думает Прасковья Михайловна и треплет первенца по щеке, пахнущей колонской водой.
Она на ходу распоряжается, какие припасы куда сгружать, что в подвал, что в сарай на дворе, что на ледник. Повару велено не мешкая ставить опару, варить бульон для студня, готовить формы для вафель, печенья, для желе, завтра к шести утра разжечь плиту.
Проходя через комнаты второго этажа, мать замечает, что Саша, похоже, редко бывает у себя, у Мишеля и вовсе запустение. Неужто сын в лазарете?
Здоров, успокаивает Николай, на дежурстве, у него казенная квартира при лейб-гвардии Московском полку.
Николай занимал квадратную торцовую залу с окнами на обе стороны. По стенам картины и ландкарты, за зеркальными дверцами шкафов книги и модели кораблей. Над письменным столом миниатюра в коричневой рамке — портрет Степовой.
Собрание, видать, только-только завершилось. В пепельницах недокуренные сигары, на чайном столике чашки, стаканы, блюдца.
Навстречу мягко ступает круглолицый, голубоглазый Торсон. От изразцовой печки отделился единственный среди гостей статский — Кондратий Федорович: шея обмотана шарфом, выражение беззащитности, на щеках бледность.
Бестужева перекрестила Константина Петровича и Рылеева, трижды облобызалась с каждым. Торсон откланялся, Рылеева задержала.
— Ты, Кондратий Федрыч, сдается, не в лучшем состоянии, горло повязал. Погоди, трава у меня в дорожном ларце…
Мил он ей, дорог, Рылеев. Его союз с сыном Сашей подобен дружбе покойного мужа с Пниным; совместно издают альманах.
Сверх того, однажды Кондратий Федорович защитил ее и удержал Сашу от безумства.
Некто оскорбленный отказался дуэлировать с Александром. Злобу свою низко сорвал на его матери. Подкараулил возле церкви, обрушил град оскорблений: с мещанским отродьем драться не станет, о сына простолюдинки дворянских рук не замарает…
Узнав об этом, Александр не находил себе места, и, кто ведает, до чего бы додумался, не окажись рядом Рылеева.
— Доверься мне. Прошу. Глупостей наделаешь. Не время…
Через несколько дней новая весть облетела город. Рылеев встретил на улице обидчика Прасковьи Михайловны, исхлестал по роже, приговаривая, что не станет драться с трусом, шкурой барабанной, рогоносцем…
Сейчас в доме, охваченном колготой, Рылеев был почти членом семьи. Он понимал: Прасковью Михайловну тревожит отсутствие второго сына, а никто лучше его не посвящен в Сашины дела. Пообещал отыскать Александра.
Прасковья Михайловна взяла с Кондратия Федоровича, как и с Торсона, слово завтра быть к воскресному обеду.
— Непременно, — пообещал Рылеев. В руках трость с роговым набалдашником, на плечах енотовая шуба. — Непременно…
Михаил приехал поздно, сестры уже отошли ко сну. Торопливо скинул шинель в сенях, снег с воротника таял на кресле. Только что от Александра; дежурит у своего герцога, завтра к обеду обязательно будет… Михаил отказался ночевать дома, сославшись на обязанности по службе.
В окно Прасковья Михайловна видела фонари у возка, ожидавшего сына. Спешит, не отпустил лихача.
Михаил был возбужденнее обычного, Николай задумчивее…
Ей пора в постель: завтра столько забот, — подумать страшно. Но страх — радостный, заботы — в охотку. К воскресному обеду, в кои-то веки, собиралась вся семья — пятеро братьев и три дочери. Тревога, не отпускавшая эти две педели, разом иссякла. Какие для нее причины? Впереди редкий день, небывалый. Спаянное любовью семейство сядет за праздничный стол, подле матери.
Прежде чем удалиться в свою вдовью опочивальню — самую дальнюю комнату второго этажа, в конце, противоположном кабинету Николая, она поднялась на антресоли, в полутемную каморку Федора. Получив вольную, старый слуга не пожелал расстаться с Александром Федосеевичем, пестовал его сыновей и теперь доживал свой долгий век с помутившимся от старости разумом. Узнал он Прасковью Михайловну или нет?
В утихшем наконец-то доме она снова спустилась вниз. Ноги гудели. Наказав сенной девушке не проспать, поднялась к себе.
Ложась, вспомнила про Сашино письмо. Удивительно, никто из сыновей о нем не обмолвился.
Достала из муфты сложенный пополам конверт, прежде чем задуть свечу, не спеша, по складам перечитала письмо, отправленное сыном из Петербурга 28 ноября 1825 года.
«Я думаю, до вас дошли уже вести, любезная матушка, что государь скончался в Таганроге 19-го числа от желчной лихорадки, рожи и воспаления в мозгу. Здесь эту новость получили в 11 часов вчерась — сей час собрался совет, Николай Пав. велел присягать Константину, но Оленин сказал, что есть духовная. Принесли — и там найдено было, что царствовать Николаю за тем, что Константин отказался, за себя и наследников. Однако Ник, все-таки не хотел перебить у брата, начали присягать. Все приняли это хладнокровно и тихо. Полки, шедши на присягу, не знали кому, — но тихо обошлось. Теперь есть и манифест Сената. Однако никто не знает, примет ли Копст, — а в Москве, говорят, Николаю присягнули, за тем, что дубликат духовной там был. Недоумение везде. Везде говорят тихомолком. Слез немало видно, даже и в первые минуты во дворце, когда я был там с герцогом. Приезжайте скорее сюда. А я отложу на несколько времени свою поездку в Москву; надо оглядеться. Смирно ли у вас? — а здесь как будто ничего не бывало, несмотря на неожиданность. Государыня молодая больна — бедняга, ей плохое будет житье. Старая государыня печальна. Ник. Пав. распоряжается всем и не показывает отчаяния. Ждут перемен больших, не знают, когда будет император, он поехал в Таганрог. Мы все здоровы, у меня лишь теперь насморк небольшой. Будьте здоровы… и покойны, любезная матушка. Нетерпеливо жду вас увидеть и, дай бог, поскорее. Поцелуйте за меня милых затворниц, спешу писать только о важном, ибо другие мелочи на ум не идут.
Прошу благословения
сын ваш
Александр Бестужев
P. S. Поздравляю с протекшим днем именин ваших. В мой ангел были у меня гости на ужин и с дамами. Знакомые все по здорову».
Засыпая, Прасковья Михайловна сквозь первую дрему слышала негромкие голоса. Николай вернулся с кем-то из братьев. С кем, не разобрала. Сморил сон.
6
Четвертушка бумаги как-то боком, чужеродно лежала поверх груды корректурных листов. Стихотворный столбец, заполнявший ее, был безотносителен к этим листам, Александр Бестужев прочитал его раз, другой,
По чувствам братья мы с тобой, —
Мы в искупленье верим оба;
И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной.
Когда ж ударит грозный час
И встанут спящие народы, —
В своих рядах увидит нас.
В тебе, я знаю, сердце бьется;
И, верно, отзыв в нем найдется
На неподкупный голос мой.
Он не притронулся к взятым из спальни записям, которые делал с дорассветного часа. Все крест-накрест зачеркнуто двенадцатью строками, сочиненными в час, когда он парил в эмпиреях, ожидая чьих-то восторгов и угадывая чье-то озлобление.