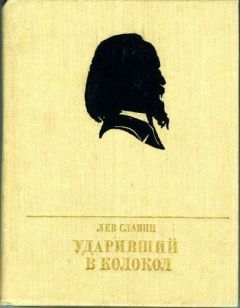— Ты Кетчера не слушай. Он вместо молитвы читает на ночь речи Робеспьера.
— Холодные и риторические, — проговорил Грановский с презрением.
И эта нотка презрения вдруг взорвала Герцена. Забыв о своих благих намерениях затушить разыгравшийся за столом спор, он вскричал:
— Если так, значит, ты осуждаешь Карла Занда? По-твоему, он не должен был убить этого мерзавца Коцебу, из-за которого гибли на каторге и в петле десятки людей?
Грановский оглянулся на жену. Щеки ее пылали. Она смотрела на Герцена с возмущением. Грановский устало провел рукой по лбу.
— Знаешь, Александр, в односторонность твоего мнения я не хочу вдаваться, — сказал он.
Герцен промолчал.
Они оба уходили от спора. На этот раз успели. Но груды взрывчатого материала по-прежнему лежали между ними.
Все вышли из-за стола и пошли прогуляться в поле. Анненков приблизился к Огареву.
— Николай Платонович, я не узнаю Герцена, — сказал он, — что он вдруг так мягок?
Огарев обмахивался самодельным веером из листа лопуха. Обильная пища разморила его. Он прилег бы с удовольствием, но не хотел оставлять Герцена: у него было предчувствие грозы. Спор о Робеспьере — это только первые отдаленные раскаты надвигающегося грома.
— Потому что Герцен — хозяин, — сказал Огарев, как всегда, словно с ленцой. — Хорошо воспитанному человеку не годится нападать на своих гостей. А во-вторых, — и, вероятно, это главное — он любит Грановского. Он ему прощает. И он надеется его переубедить.
— Мне кажется, что Грановский при всей своей душевной мягкости несгибаем, как скала. А нападки Кетчера…
— Ну, это пустое. Кетчер — буян. Но…
— Что «но»? Кончайте уж.
— Да нет, Павел Васильевич, я хотел только сказать…
Он взял Анненкова под руку и сказал, приблизив к нему лицо:
— …что буян-то, в сущности, Герцен. А в Кетчере ярится затянувшаяся молодость. Посмотрим, каков он будет через десяток лет. Пойдемте, однако, побыстрее. Мы отстали.
Солнце еще не село. Гости, где по двое, где по трое, шли по меже среди ржи. Крестьяне выпрямлялись, смотрели на нарядную толпу господ. Мужики, все по пояс голые, портки подвернуты. Да и бабы и девки с высоко, повыше колен, подоткнутыми подолами, рубашки сползали с голых загорелых плеч.
— Бог в помощь! Ну как жнитво? Не рано ли? — крикнул Разнорядов, поглядывая на Герцена, мол, слышит ли, как ловко он обходится с простым народом.
Ответствовала молодая бойкая баба, нисколько не стесняясь того, что грудь ее еле прикрыта:
— Самое время, барин, а то как бы зерно не утекло.
Вася Боткин, накинувший на свою лысину клетчатый носовой платок, заметил вполголоса:
— Какой, однако, бесстыжий наш народ, даже женщины оголяются на людях, напрочь лишены стеснительности.
— Ну, — сказал Огарев, иронически сощурившись, — на балах наши светские барыни с не меньшей ретивостью выставляют напоказ свои прелести, почему за их спинами и выстраиваются мышиные жеребчики для наблюдений с птичьего полета.
Герцен от души расхохотался.
Но если Боткин рассчитывал найти сочувствие у Грановского, шедшего рядом с ним, то он опростоволосился. Грановский ответил с необычной для него горячностью. Он даже остановился посреди межи, стали все и впереди, и сзади и прислушивались.
— То, что ты называешь бесстыдством, Боткин, — говорил Грановский, шепелявя в возбуждении больше, чем обычно, — самый факт этот и в самом деле составляет позор, но вовсе не для русской женщины, а для тех, кто довел ее до того, кто привык относиться к ней цинически. И большой грех за это лежит на нашей русской литературе. Я никак не могу согласиться с тем, что она хорошо делает, потворствуя косвенно этому цинизму, да, именно распространением цинического взгляда на народность.
Немедленно вломился Кетчер со свойственной ему шумливой пылкостью. Нервно похохатывая, он орал:
— Как же можно обобщать каждое пустое замечание и вытягивать из него разные смыслы? Ведь это уже сыск! А если по существу, так ты бы, Грановский, спросил сам себя: не участвовал ли сам народ в составлении дурных привычек своих и, следственно, наших? А?
Грановский презрительно смежил ресницы. Его мало интересовал этот болтун Кетчер. Грановский метнул стрелу в молчавшего покуда Герцена, а через него в Белинского, и вовсе отсутствующего.
— Во-первых, — сказал Грановский уже более спокойно, профессорским тоном, как если бы он стоял на кафедре, а не средь волнующегося моря ржи, — во-первых, брат Кетчер, случайные замечания не так уж случайны, ибо они выдают затаенные мысли. И скажу тебе прямо, что во взглядах на русскую народность я сочувствую гораздо более славянофилам, чем Белинскому.
Герцен насторожился: назовет ли Грановский его?
— И, — продолжал Грановский, — чем «Отечественным запискам» и чем нашим доморощенным западникам.
Назвал-таки! Иносказательно, но назвал. Крестьяне с любопытством прислушивались, о чем бают баре. С чего это они так ерепенятся?
— О чем это они так повздорили? — спросила молодайка с полуобнаженной грудью, на которую с вожделением косился Разнорядов.
Герцен не мог не поднять перчатку. Он любил Белинского. Но и Грановского тоже. Однако взгляды Белинского были и его взглядами. Не желая все же заострять спор, он обратился к Кетчеру:
— Пойми же, братец, — сказал он мягко, — народность — это другая тема. А сейчас мы толкуем о нравственности. Посмотри на крестьян. Они работают на нас, но не смеют поднять голоса. И наш долг — относиться к ним по-человечески. Их голос — это мы, понимаешь? Народ безъязыкий, и всякая выходка против него — это оскорбление ребенка. Мы, образованное меньшинство, знаем разные формы протеста — от банкетных речей до самоотверженных поступков. Народ только одну: бунт.
Кетчер, конечно, замахал руками, дескать, при чем тут нравственность и так далее.
Но все понимали, что истоки спора глубже. Судьба России — вот что тайно, а иногда и явно волновало всех. Всех ли? Или только образованное меньшинство? Ах, как это незабываемо сказал Пушкин в «Борисе Годунове» «Народ безмолвствует…»
За вечерним чаем там же на лужайке перед домом гостей уже осталось немного. Уехал Женя Корш и зеленоглазый Миша Катков. Их увез в своей коляске Боткин. Укатил Анненков и чета Панаевых. Разнорядов сказал, что по соседству в Богородском у него приятель, вот у него он и заночует.
За столом только самые свои.
К чаю подали крендельки, выпеченные матерью Герцена, кротчайшей Луизой Гаак, по рецепту, вывезенному ею из родного Штутгарта, и варенье трех сортов, на которое немедленно слетелись осы. Говорили о предметах незначительных, чтобы не столкнуться во мнениях. Нарочитость этого разговора делала застольную беседу натянутой. На беду Огарев стал пространно и довольно вяло рассказывать модную светскую сплетню о князе Иване Гагарине, который вдруг принял католичество и вступил в иезуитский орден.