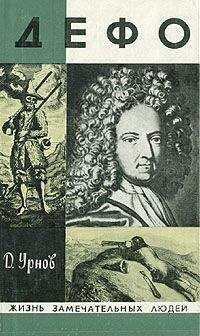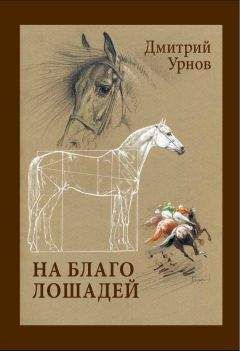«Джейн, одна из наших служанок, – пометил Сэмюель Пипc 2 сентября 1666 года эту запись, – засидевшаяся в тот день позднее обычного за приготовлением вещей к празднику, вдруг подняла нас в три часа утра и сообщила, что Сити горит».
Не сразу можно было представить себе размеры нагрянувшего бедствия. Поначалу Сэмюелю Пипсу показалось, что хотя и горит, но где-то далеко, и он отправился назад в постель. И даже несколько часов спустя около семи, когда поднялся он и выглянул в то же окно, ему показалось, что огонь не приблизился и даже стал тише. Но надо было посмотреть в другую сторону: целые улицы были охвачены пламенем!
Добровольный летописец спешит из дома, он устремляется к Тауэру, и вот перед взором его открывается объятый пламенем город. В Сити стена у Поповских ворот остановила движение пожара: Сэмюель Пипc отмечает этот факт так же, как находим мы упоминание об этом в семейных преданиях Дефо.
Но разница в самом деле в наблюдательных позициях, в районах города. Сэмюель Пипc, хотя и был потрясен виденным, но это не отменило для него праздника и не помешало ему в тот же день отменно пообедать с друзьями. И в продолжение славного застолья они с тревожным любопытством поглядывали в окно. А Дефо, его семья и соседи видели пожар изнутри. Они, собственно, и горели!
В отличие от чумы, где первопричины выдвигались всего только в двух вариантах – происки дьявола или же божья кара, о такой напасти, как этот пожар, горожане не знали, что и подумать. Кто опять ссылался на бога или на дьявола, кто утверждал, что это все «проклятые католики», а кто говорил – раскольники, но достоверно знали одно: загорелось у булочника на Пудинговой улице, а там пошло полыхать.
Если чума унесла пятую часть лондонского населения, которое тогда составляло четыреста тысяч, то пожар, хотя погибло в нем только шесть человек, превратил город в руины. В это же время разгорелась еще и война – с голландцами.
Войны на веку Дефо шли фактически непрерывно. Это была одна и та же, изредка приостанавливаемая перемириями, да и то лишь частичными, борьба за передел мира. Англичане поддержали голландцев в их стремлении освободиться от испанского господства, но сами стали с ними жестоко соперничать за владения на суше и на море. Между англичанами и голландцами было три войны подряд. В первой из них англичане потеснили голландцев и заставили их признать Навигационный акт, принятый английским парламентом в 1651 году. В этот самый год, за месяц до принятия акта, Робинзон ушел в море, и все коллизии, в какие попадает он «на водах», являются последствиями все того же парламентского постановления, запрещавшего ввоз товаров в Англию на иностранных судах.
Навигационный акт защищал интересы английских мореплавателей и купцов, но – в пределах таможенного осмотра, у берега, а в открытом море борьба в результате этого постановления только обострилась. Четыре года англичанам потребовалось, чтобы «убедить» голландцев, наиболее сильных своих морских конкурентов, не нарушать этот акт. Однако спустя десять лет началась вторая англо-голландская война. И опять перевес поначалу был на стороне англичан, в особенности в заокеанских колониях, где голландцам пришлось расстаться с Новым Амстердамом, и англичане присвоили ему название того самого города, где родился Робинзон, только, естественно, с приставкой Новый, то есть Нью-Йорк (1664).[7]
Но вскоре стихийные бедствия ослабили англичан, и прямо по следам чумы и пожара летом 1667 года голландцы дерзко блокировали вход в Темзу и уничтожили британский флот прямо в виду города. В итоге по заключении мира решено было так: от притязаний на свой бывший Новый Амстердам, а нынешний Нью-Йорк голландцы окончательно отказываются, зато в Навигационном акте будут сделаны послабления в благоприятную для них сторону.
Все это было тоже не окончательно, потому что еще через несколько лет началась и третья война, и впоследствии были конфликты, в силу которых Дефо неоднократно тревожил своих читателей вопросом: «А вдруг придут голландцы?»
Из всех голландских нападений налет 1667 года был особенно опасным и памятным, ведь тогда боялись, что голландцы в самом деле придут, возьмут да и высадятся! В Лондоне поднялась паника…
В эту трудную пору у Дефо умерла мать. Знаем мы о ней мало, но факты все же важные. По социальному положению Алиса Фо стояла выше своего мужа и была коренной англичанкой. Это ее отец, дед Дефо, имел довольно обширное хозяйство, а потому настроен был не в пользу парламентских преобразований и в результате по ходу революции и гражданской войны понес, как видно, значительные убытки, иначе чем еще объяснить выход его дочери замуж за какого-то торговца? Одним словом, породнился Дефо по линии матери с той прослойкой, откуда родом была и мать Шекспира. Предки Мэри Арден (матери Шекспира) и Алисы Фо (девичья фамилия ее неизвестна) – пусть не совсем сельские сквайры, но вполне йомены.
В «Гамлете» сказано: «Послужил как йомен». Это принц говорит о почерке, об умении писать красиво, а почерк в тот раз по ходу дела спас Гамлету жизнь: удалось изменить собственный смертный приговор… И всегда говорил Шекспир о йоменах только так, не много, но веско, и называл он их неизменно стойкими, мужественными, верными. У К. Маркса мы находим определение йоменов – становой хребет нации.
«Йоменом я родился, йоменом и умру» – это реплика из пьесы, хотя и не шекспировской, но шекспировских времен, произвела сильнейшее впечатление на М. Горького, когда он еще в молодости прочитал эту пьесу и поразился силе самосознания простого человека, гордого своей участью. Именно с йоменами связано понятие о «старой веселой Англии».
Когда и где она существовала? На это можно ответить определенно. Почти всегда в прошлом. Идеал ускользающий, уходящий, уходящий вместе со «старым добрым временем», которое кажется «добрым» лишь на почтительном расстоянии. Уже Шекспир застал «старую веселую Англию» лишь в обломках, уже Шекспир – природный йомен по своим корням – покинул родную среду и отправился из сельской местности в большой город на заработки. А Гулливер смог увидеть тех же «поселян старого закала» только благодаря тому, что в ученой стране Лапута получил возможность управлять временем, и Гулливер вызвал их из прошлого.
Если бы такая возможность представилась и нам с вами, то, двигаясь назад от века к веку, мы, разумеется, не задержались бы в «старой доброй Англии» Диккенса, потому что тогда это наименование сделалось уже только условностью. Пришлось бы миновать и шекспировские времена. Но где-то, продвинувшись еще на сто лет вспять от Шекспира, могли бы мы остановиться в середине XV века.