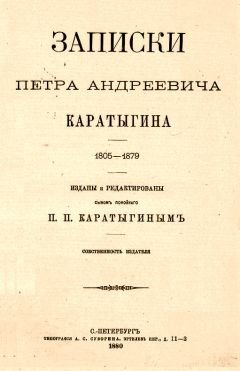В другом случае его музыкальное дарование сказалось еще в большей силе, но лавры достались уже не ему, а его родному, брату Александру Николаевичу Лядову, балетному дирижеру и непременному капельмейстеру на балах при высочайшем дворе.
Это было так:
В день придворного бала Александр Николаевич получил приказание явиться рано утром к государю Николаю Павловичу, Конечно, в назначенный час он был уже во дворце.
— Не знаешь ли ты (такого-то) вальса, игранного в прошлом году на придворном балу в Берлине? — спросил его император.
— Не знаю, ваше величество.
— Жаль! Он очень понравился императрице. Мне хотелось бы, чтоб ты его сегодня сыграл, это был бы приятный для нее сюрприз.
— В Петербурге его нельзя достать ни за какие сокровища. Если же вашему величеству будет угодно, то я его выпишу к следующему балу.
— Нет, я бы хотел это устроить именно сегодня, — сказал Николай Павлович и после небольшой паузы продолжал: — а что если я тебе этот мотив просвищу, ты не сумеешь переложить его на оркестр? Я его помню отлично.
— За успех ручаться не посмею, ваше величество, но постараюсь исполнить ваше желание.
Лядов вооружился карандашом и клочком нотной бумаги. Государь стал насвистывать, а он наскоро набросал мотив и прямо из дворца отправился к брату Константину Николаевичу, рассказал желание императора и упросил его помочь разрешить эту трудную задачу. Константин Николаевич присел к письменному столу и через два с половиною часа вручил брату аранжировку берлинского вальса, который был быстро разучен придворным оркестром. Вечером он уже исполнялся во дворце, чем императрица осталась чрезвычайно довольна. Конечно, для Александра Николаевича Лядова это не прошло бесследно: он получил дорогой царский подарок.
Из служивших в театре музыкантов к Федорову часто хаживал контрабасист Т-ский, превосходно игравший на рояле. С Павлом Степановичем он был старый знакомый, так как принадлежал к числу воспитанников театрального училища. Впрочем, его частые визиты имели деловой характер: он постоянно играл в четыре руки с дочерью Федорова, которая заслуженно пользовалась репутациею талантливой пианистки.
Т-ский в часы досуга сочинял небольшие музыкальные вещицы, которые пользовались успехом. Все его романсы отличались мелодичностью, а некоторые до сих пор не признаются еще устаревшими. Он имел слабость свои сочинения посвящать ученицам (Т-ский преподавал фортепианную игру) и знакомым, разумеется, преимущественно тем, которые пользовались его особым почтением и расположением.
Питая глубокую признательность к Федорову, Т-ский как-то вздумал его именем украсить свое новое произведение. Не обратив внимания на слова романса, он явился к Павлу Степановичу и торжественно преподнес ему ноты, на самом видном месте которых значилось посвящение.
Начальник благосклонно принял от подчиненного дань признательности и, прочтя первые строки романса, заметил сиявшему от восторга автору:
— Я вам очень благодарен за музыку, а уж стихи-то вы могли бы посвятить кому-нибудь другому.
— Почему другому? — испуганно спросил Т-ский.
— Да потому, что вы, вероятно, не совсем хорошо вникли в их смысл. Дуничка, — обратился Федоров к дочери, — посмотри-ка, какие куплеты он мне посвящает:
«Что ты ходишь за мной?
Так уныло глядишь?
Ненавижу твой взор,
Ненавижу тебя».
Только тут несообразительный композитор понял свою оплошность и до такой степени переконфузился, что Павлу Степановичу стоило не мало хлопот успокоить его. Он полагал, что начальник примет это за насмешку, но, конечно, на самом деле этого быть не могло, потому что Федоров хорошо различал злой умысел от недосмотра.
Не реже Т-ского у Федорова бывал Михаил Иванович Сариотти, даровитый артист русской оперной труппы. Он появился как в доме Федорова, так и на театральном горизонте очень молодым человеком. Тотчас же по возвращении из Италии, где доканчивал свое вокальное образование, Сариотти был принят на казенную сцену и сделался близким знакомым Павла Степановича. Он был необыкновенно худощав, высок и некрасив; длинные светло-русые волосы, густыми и вьющимися прядями, похожими на всклокоченную гриву, ниспадали на плечи и придавали ему странный вид, который многие называли «демонским». Это название он также оправдывал своими манерами, ухватками, живостью и подвижностью, которые не покидали его до конца жизни.
Чуть ли не с детства имея предрасположение к чахотке, Сариотти постоянно был нездоров, однако упорно противодействовал развитию болезни до последнего дня. Он берег себя, вел умеренную жизнь, вел всем был крайне осторожен и, благодаря этому, прожил дольше предельного срока, предсказанного докторами, у которых он лечился. С Сариотти я всегда был приятелем, но особенно близко сошелся с ним в последний год его жизни, когда он у меня на даче (около Стрельны) случайно провел лето. Весной он поехал гостить в деревню к Коммисаржевскому, за Москву, но там почувствовал себя настолько дурно, что поспешил возвратиться в Петербург. я встретился с ним, он пожаловался мне на ненадежное состояние здоровья, и я пригласил его к себе на дачу. Он с удовольствием принял мое предложение и на другой же день приехал ко мне с ручным багажом.
С каждым днем Михаил Иванович угасал все более и более. Я всячески старался его ободрить, но он, всегда боявшийся смерти, вдруг начал меня уверять, что дни его сочтены, и на этом основании стал отказываться от лечения. К концу лета он так ослаб, что я с минуты на минуту ожидал кризиса. Все ночи напролет Сариотти проводил без сна; ноги отказывались от службы, и он принужден был не сходить с кресла Однако, любимых прогулок по Стрельненскому парку мы с ним не прерывали. Ежедневно усаживали его на извозчика и тихо провозили по аллеям парка. Я же обыкновенно шел рядом с ним.
Сариотти вообще никогда не любил разговаривать о смерти, но в это последнее лето она не сходила у него с языка. Он начал смеяться над нею и острить над своим безысходным положением.
На даче у меня жил щенок, который отличался ласковым нравом и резвостью. Он часто подбегал к Михаилу Ивановичу и прыгал у его ног. Сариотти всегда по этому поводу говорил:
— Ишь ведь, какой подлец, чует мертвечину-то…
Не задолго до кончины, после переезда уже в город, играл он в карты с приятелями, явившимися его навестить. В это время он не сходил с дивана, будучи совершенно расслабленным. Проиграв несколько рублей, Сариотти достал из-под подушки ключ от письменного стола и, подавая его одному из гостей, сказал: