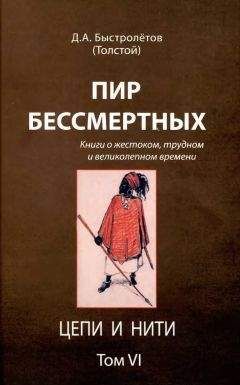Как пьяный, шатаясь и что-то бормоча, я повернул за угол, перешел улицу и сел на бульваре на скамейку. И вдруг почувствовал тошноту. Встал, обнял мокрый ствол дерева, меня стали сводить судороги рвотных движений. Рвоты не произошло, но меня от волнения выворачивало наизнанку. Пройдет, станет лучше, прекратится слюнотечение, а потом вспомню блеск огня — и все начинается снова.
Жажда легкой наживы отсутствует в моем характере. Я не игрок, не любитель лотерей, не вор и не грабитель: в жизни все, что имел добывал тяжелым трудом. Поэтому, обдумав происшедшее, решил бросить игру с огнем, и бандита из меня не получилось. Осталось только насмешливое чувство ущемленного самолюбия.
Потом настал день, когда у нас с мамой не оказалось денег для оплаты обеда. Я отправился работать на виноградники. Мужчин было мало, люди были нужны. Я очутился в компании здоровенных молодых девок и, к своему ужасу, обнаружил, что они сильнее и, главное, ловчее меня. Это было ужасно. Я сгорал от стыда. Надо мной открыто не смеялись. Но в их подчеркнутой вежливости я чувствовал сознание превосходства, насмешку и презрение. Да, Анечка, это было ужасно, впервые я внутренне ощутил свою неполноценность, и моя гордость не могла и не хотела примириться с этим. Я нанялся матросом на портовый катер. Конечно, и там было тяжело. Помню, я принес ящик с инструментами. «Дай рашпиль!» — приказал капитан. Я стою и не знаю, что такое рашпиль, а он не понимает, что могут быть бездельники, которые этого не знают. Произошла мучительная ломка мироощущений, болезненная переоценка ценностей. Самонадеянный слабый интеллигентик медленно, но неизбежно стал превращаться в грубого, сильного, ловкого, недоверчивого и внутренне агрессивного рабочего парня.
Весну, лето и осень шестнадцатого года я провел среди рабочих людей, получал от них довольно сильные колотушки и совершенно нестерпимые уколы по самолюбию, но терпел, сжимая зубы, а с началом зимы поступил в мореходное училище и стал учиться сразу в двух средних учебных заведениях. И учился на отлично.
Лето семнадцатого года уже плавал на транспорте «Фортуна» вдоль Кавказского побережья в качестве рулевого. Видел немецкую подводную лодку и турецкий эсминец, слышал свист снарядов, направленных «в меня». Привык к бессонным ночам, к тасканию мешков на спине, к матерщине и пьянству, к реву волн, к проституткам… Был удивлен, какой нелепицей представляется интеллигентское существование и все эти Толстые и Достоевские, если взглянуть на них с позиций рабочей жизни. Эти короткие месяцы перевернули все мои привычные представления и понятия. Я вернулся в гимназию и мореходное училище загорелым, плечистым, широкогрудым и молчаливым: во мне рождался другой человек, и когда в начале следующего года мать подала мне полученный из Петрограда пакет и я прочел лживые поздравления, что отныне мне предоставляются права на графское Российской империи достоинство, то в голове неожиданно мелькнула испуганная мысль, а как же в следующем году я явлюсь в Новороссийский порт и начну искать себе работу с таким вот идиотским грузом в удостоверении личности? Кто меня примет? Как меня допустят в свою среду матросы? Или идти в рабочие на цементные заводы? Но и там будет не проще и не краше.
Любопытно, что ни разу мне не пришла в голову естественная и закономерная мысль — сделать то, что сделали все другие мои одноклассники — пойти в юнкера, надеть офицерские погоны и стать защитником Единой и Неделимой России. Мой товарищ по гимназии, окончивший ее на год раньше, Санька Голиков, сын почтальона, в красивой черной форме корниловского подпоручика однажды валялся пьяным на бульваре. Я постоял над ним в раздумье. Сын почтальона? Гм… Нет, Толстому приличнее быть рулевым… Я гордо поднял подбородок и прошел дальше: с Белой армией у меня все было покончено, даже не начавшись! Однако я в своем рассказе забежал вперед.
С опозданием против Петрограда в Анапе утвердилась, наконец, новая власть: во главе стал фронтовой солдат Про-тапов, а секретарем у него сделался мой товарищ по гимназии Разумихин, объявивший себя большевиком. Организовался совет народных комиссаров — маленькое интеллигентское правительство, в котором один из учителей стал комиссаром просвещения, один из врачей — комиссаром здравоохранения и так далее. Это было мягкое, я бы сказал, робкое правительство переходного периода, потому что низы, трудовой народ, еще своей власти не почувствовали и никаких серьезных счетов бывшим господам пока не предъявляли: революция прошла политический этап, но не вошла в практику социальной перестройки.
Летом я служил на вооруженном сторожевом катере «Фредерика» и состоял в городской сторожевой роте. Лето выдалось беспокойное: старая крепкая власть распалась, новая крепкая власть не сложилась и не спаялась, и изо всех щелей выползли уголовники, ряды которых наполнились бежавшими из армии и флота дезертирами. Два происшествия потрясли меня и во многом предопределили мои поступки в будущем. Однажды ночью Протапов и Разумихин возвращались с заседания. На улице на них напала банда. Разумихин был убит, а тяжелораненый Протапов прислонился спиной к дереву и стал отстреливаться из маузера. Убил одного из нападавших и умер. По трупу бандита нашли его сообщников — пять брать-ев-сапожников, бывших фронтовиков.
Суд был всенародный, прямо на базаре, — всех пятерых приговорили к расстрелу. За городом, около бойни, над высо-ким обрывом поставили осужденных; наш взвод выстроился поодаль, а вокруг подковой стоял народ: дети впереди, взрослые за ними, и все грызли семечки. Стреляющих было много, но мы стали слишком далеко и стреляли неумело: пули выбивали фонтанчики пыли вокруг наших жертв, но они оставались целы. Потом двое упали — пули им перебили ноги. Остальные трое поставили раненых братьев на колени и стали кричать: «Цельтесь в грудь, товарищи! Цельтесь в грудь!» Именно тогда, увидев за мушкой своей винтовки выцветшую солдатскую гимнастерку, я сделал открытие, что и тут жизнь очень не похожа на книги и целиться в другого легче и спокойнее, чем видеть, что другие целятся в тебя самого.
Потом из Новороссийска к нам ворвался катер, захваченный матросами-анархистами: на мачте развевался огромный черный флаг с белой надписью: «Анархия — мать порядка». Эта банда наведалась в винные погреба и городскую кассу, а затем арестовала случайно подвернувшегося им на улице комиссара юстиции Домонтовича, бывшего московского адвоката, и его жену Щепетеву, дочь директора гимназии, преподавательницу немецкого языка. Их привели на катер. Собралась толпа. Все щелкали семечки. Бандиты притащили с пристани две небольших бетонных плиты и стали подвешивать их на ноги и горло своим жертвам. «Постойте! Не надо, товарищи! Мы сами!» — сказали муж и жена. Обнялись, перекрестили друг друга, поцеловались и, волоча груз, спрыгнули за борт. Помню, как я полез купаться в Малой бухте и увидел, что с моря волны прибивают к берегу труп. Мы вытащили его. Это было тело пожилого мужчины в нижнем белье с веревкой на шее. Опять толпа и семечки. Матросик Федька с нашего катера случайно обнаружил, что если надавить на грудь, то гнилостные газы выходят через гортань и труп как бы хрюкает на разные голоса. Это вызвало много смеха.