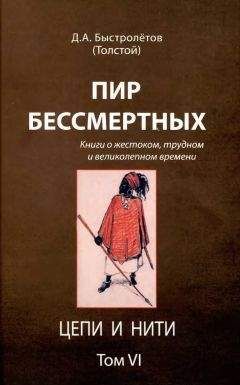Потом из Новороссийска к нам ворвался катер, захваченный матросами-анархистами: на мачте развевался огромный черный флаг с белой надписью: «Анархия — мать порядка». Эта банда наведалась в винные погреба и городскую кассу, а затем арестовала случайно подвернувшегося им на улице комиссара юстиции Домонтовича, бывшего московского адвоката, и его жену Щепетеву, дочь директора гимназии, преподавательницу немецкого языка. Их привели на катер. Собралась толпа. Все щелкали семечки. Бандиты притащили с пристани две небольших бетонных плиты и стали подвешивать их на ноги и горло своим жертвам. «Постойте! Не надо, товарищи! Мы сами!» — сказали муж и жена. Обнялись, перекрестили друг друга, поцеловались и, волоча груз, спрыгнули за борт. Помню, как я полез купаться в Малой бухте и увидел, что с моря волны прибивают к берегу труп. Мы вытащили его. Это было тело пожилого мужчины в нижнем белье с веревкой на шее. Опять толпа и семечки. Матросик Федька с нашего катера случайно обнаружил, что если надавить на грудь, то гнилостные газы выходят через гортань и труп как бы хрюкает на разные голоса. Это вызвало много смеха.
Потом пришли белые. Генерал Покровский построил за городом две виселицы. На одной повесил комиссара финансов, коммуниста, к другой подвели Федьку, который выступал на всех митингах с бессвязными и смешными речами. «Проси милости!» — закричал ему с коня генерал. Федька плюнул в его сторону и был казнен. Конечно, при той же толпе и тех же семечках. Это был стиль времени. Он формировал и мою психику.
— Конечно, мою тоже, — подтвердила Анечка.
— Весной девятнадцатого года я окончил гимназию и мореходное училище. Идти наниматься на торговое судно я не мог, потому что был военнообязанным. Поступил в Новороссийске на большой транспорт «Рион», стоявший на ремонте. Позднее он своим ходом дошел до Севастополя и стал в док. Говорили, что вслед за Деникиным будет разбит и Врангель и что «Рион» готовят под эвакуацию белых из Крыма.
На судне к вольнообязанной команде добавили охрану из офицеров и солдат, среди которых были сыновья высокопоставленных лиц. Образовалось два кубрика, две команды, два политических мира. Помню, как матросы отвели меня в сторону и сказали: «Уходи из этого кубрика в тот. Мы одно, а ты, Митька, другое. Ты из благородных. Интеллигент. Ты нам не пара. Иди к своим!» «А вы для меня — свои», — ответил я и остался. Кто кому был своим и почему, я понимал плохо, но ребята были моими товарищами. Я слышал их разговоры шепотом, но не интересовался, о чем они секретничают, пока на разводе лейтенант Казаков и мичман Шкалинский однажды вдруг не схватили за руки пожилого матроса Ивана Козы-ренко, ударили пистолетом по голове, сшибли с ног и начали топтать ногами. Изувеченного увезли в контрразведку, а нам объявили, что это был большевик и член тайной организации.
На судне удвоили охрану. Однажды летом мы получили повестки к воинскому начальнику. «Мы бежим в Турцию. А ты?» — спросили меня. «Как это — а ты? Я с вами!» «Сегодня отвинти баковый компас и вынеси на берег в мотке грязного белья. Компас продай на шхуну “Ялта”, она стоит около обсерватории. Тебя будет ждать капитан. Получишь три турецких лиры. Это тебе на первую неделю в Константинополе. Потом найдешь работу. Жди дальнейших указаний. Понял? Не попадись: расстреляют».
В то утро на вахте охранником стоял пехотный капитан Аптекин. «Что несешь?» «Грязное белье бабе, господин капитан». Аптекин брезгливо пощупал белье пальцем. «А под бельем что?» «Бутылки», — ответил я не своим голосом. «Все пьете, а? Ладно, иди. Попадешься пьяный — спишу на фронт».
Не чуя ног, я спустился по трапу. Остальное сошло удачно, и я зашил в рубаху три лиры. Вечером после работы стоял на верхней палубе и думал: «Кончается мирное бытие дома. Дальше — чужбина. Что-то будет со мной?»
Смеркалось. Рабочие ушли. Корабль, подпертый с бортов множеством бревен, беспомощно и мрачно торчал в огромном доке. Внизу у трапа с винтовкой на плече прохаживался вольноопределяющийся Ягелло, потомок польских королей, молодой человек с лицом старого верблюда. Для полноты сходства он даже брызгал слюной, когда начинал говорить. Вдруг я увидел внизу справа, как из-за товарных вагонов вышел человек с тяжелой корзиной в руках, подошел к доку и сбросил корзину вниз. Мгновение спустя из пространства между судном и стенкой дока вверх рванулось желтое пламя и грохнул взрыв. Судно дрогнуло. Я отчаянно уцепился за поручни, чтобы не полететь за борт. Несколько бревен с гулом и треском обрушилось на дно дока, но корабль остался стоять на киле: покушение не удалось, свалить «Рион» в доке подпольщик не сумел, и позднее судно ушло в Турцию с белогвардейцами на борту. Тем временем мужчина исчез за вагонами. Аптекин, который опять стоял на вахте, с пистолетом в руке побежал вниз по трапу, а потомок короля, обезумев от ужаса, бросился не к вагонам, а к трапу и, наткнувшись на Аптекина, не целясь, выстрелил ему в живот. Аптекин упал мертвый, а Ягелло закричал, забрызгал слюной, бросил винтовку, потом хотел ее поднять, но оступился и упал вниз, в док, и разбился насмерть. Мы, вольнонаемные, работали всю ночь, заводили новые подпоры взамен упавших, укрепляли корабль. Наутро узнали, что солдат, пропустивший в док мужчину с корзиной, бежал с поста: он тоже был членом организации. Нас, военнообязанных, выстроили на берегу с вещами, выдали деньги и отпустили восвояси, пригрозив, что если мы немедленно не явимся к воинскому начальнику, то попадем в маршевую роту. «Ну, как? — тихонько спросили меня ребята. — Бежим?» «Да». «На “Цесаревиче Константине”. Поодиночке. Не зевай!»
Я пробрался на палубу «Цесаревича» задолго до посадки пассажиров. Первую общую проверку прошел удачно, спрятавшись в уборной. «Вы заглянули в уборную, поручик?» — неожиданно услышал голос на палубе. «Нет, господин полковник! Сейчас проверю!» Дверь полуоткрылась, я увидел руку поручика. «А это что за узлы? Проверить и убрать с дороги сейчас же! Распорядитесь немедленно!» «Слушаю!» Рука исчезла. Я остался жив. Подождал, пока стихли звон шпор и голоса офицеров, выскочил на палубу и увидел в проходе крышку горловины угольного трюма. Открыл ее и ногами вперед спрыгнул в раскаленную угольную пыль.
9
Эти годы тогда представлялись мне бурей, а себя я считал листом, сорванным с ветки, уносимым в неведомую даль. Рядом гремели войны, менялись границы государств, сотни тысяч обезумевших и голодых людей бежали одни туда, другие — сюда, И я бежал тоже, прыгал через тех, кто упал, и падал сам, думая, что уже не поднимусь, что на этот раз меня затопчут другие. Но поднимался и, крутясь на ветру, бежал дальше, потому что остановиться не было сил.