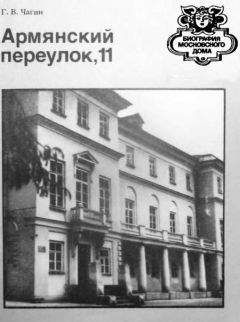Лев Михайлович сидел на сцене рядом с другими обвиняемыми. Сколько раз он вот так же всматривался в лица, находясь в президиуме по торжественным дням. В этом самом зале… Но сейчас он в совсем ином положении… А зал переполнен, заняты все места, даже стоят в проходах. Почти каждое лицо знакомо, почти каждый бывший подчиненный. Ведь в наркомате он десять лет, с тридцать седьмого по сорок седьмой… Какой позор: его обвинят в «антигосударственных», «антипатриотических» поступках на глазах всех этих людей. Нет, уничижительные слова он не произнесет, признаний «в раболепии» и прочих не сделает. Галлеры всегда были патриотами, всегда были верны присяге. Сначала царю, потом — народу. Но верны всегда. Признаться в несуществующем — предать память деда и отца, память Вернера…
Первым для дачи показаний вызвали Л. М. Галлера. Спокойно, деловито он объяснил суду мотивы передачи бывшим союзникам торпеды и документации по артиллерии, подчеркнул, что сделано это было с его согласия и одобрения. Повторяя показания, данные во время следствия, и дополнительные объяснения, четко сказал, что имел возможность информировать о «неправильности» передачи, но «этого не сделал», «допустил политические ошибки» и «неправильные действия». Не убедился в наличии разрешения, не использовал «всех возможностей для того, чтобы доложить кому следовало о целесообразности или нецелесообразности той или иной передачи, не докладывал о своих опасениях, если таковые были…»[313]
Однако кое-кому из состава суда этих признаний было мало. Абанькин в довольно путаном выступлении попытался доказать, что Галлер недооценивает такого великолепного оружия, как торпеда «45–36 ABA», а Харламов обвинил в раскрытии перед «заграницей» системы нашего оружия. Лев Михайлович хотел было напомнить, что все это еще в ходе войны оказалось у немцев, секретность была утрачена. Но задал вопрос Голиков. Голос его был пронзителен, временами он странно дергал выбритой до блеска головой. Как сквозь туман донеслось до Льва Михайловича: «Адмирал Галлер, вы признаете, что передали авиационную торпеду и чертежи артиллерийского вооружения без разрешения Советского правительства?» «Нет, этого я не могу признать!» — ответил Лев Михайлович[314].
«Господи, — думал он, — неужели военного человека, прослужившего в офицерских и адмиральских чинах сорок с лишним лет, с дисциплиной, вошедшей в плоть и кровь, можно заподозрить в свершении такого! Конечно, окончательное разрешение давал нарком Кузнецов. Но я не скажу об этом. Потому что Николай Герасимович лишен возможности сослаться на разрешение Сталина…»
Вслед за Голиковым серию вопросов с приправой из политической демагогии задал Кулаков, вновь пытаясь добиться от Льва Михайловича признания исключительных достоинств переданной торпеды, непреходящей ценности оказавшейся у англичан документации по артиллерии. Но Лев Михайлович лишь повторил свои показания: да, ущерб передачей нанесен. И сказал еще об одном, о чем решил довести до сведения суда еще накануне. Сказал о Н. И. Шибаеве… По вопросам следователя Галлер понял: на начальника МТУ следствие обозлено (и, наверное, не только следствие). Не дает нужных показаний против обвиняемых! Значит, нужно его спасать, выводить как-то из-под удара. И Лев Михайлович заявил: «Я должен доложить, что… имеется доклад бывшего начальника МТУ контр-адмирала Шибаева, в котором он дает высокую оценку этого оружия. Таким образом, получается несоответствие между моим заключением и мнением начальника МТУ…» [315] Сказано понятно: Шибаев не виноват в передаче торпеды — он ее ценил, а я, Галлер, принял решение вопреки.
Наверное, это заявление Галлера помогло Шибаеву, но когда начался допрос свидетелей, от «атак» не избавило. Первым Шибаеву задал вопрос Голиков: «Можете ли привести случаи, когда адмирал Галлер принуждал вас дать информацию англичанам и американцам?» «Нет, не могу»[316], — ответил Шибаев и стоял на своем, несмотря на грубый нажим со стороны Голикова и Харламова. Не удалось суду добиться от него показаний против Галлера…
Н. И. Шибаев любил и глубоко уважал Льва Михайловича. Адмирал Л. А. Владимирский рассказывал, что и через годы у этого сурового, совсем не сентиментального человека выступали на глазах слезы, когда он вспоминал Галлера и «Шемякин суд» (так определил его Н. И. Шибаев). Он же назвал «цепным псом» другого свидетеля — В. И. Алферова, жаждавшего, в первую очередь, крови Н. Г. Кузнецова. Алферовым, похоже, не были забыты процессы 1937–1938 годов, и он делал все, что мог, пытаясь соединить, связать январь 1948 года с тем ужасным прошлым (будто бы прошлым, как вскоре выяснилось…). «Противодействие в создании мощной советской торпедостроительной промышленности осуществляли такие матерые враги советского народа, как Пятаков, Павлуновский и Орлов…» — говорил он, с удовольствием вспоминая, как удалось «раздавить этих гадов». Алферов заявил, обращаясь к Кузнецову: «…хотели вы то, что хотела американская и английская разведки»[317].
Лев Михайлович смотрел на этого человека, слушал произносимые им слова, и не чувство гнева, возмущения овладевало им, а чувство горького удивления, фанатик? На память пришло из Честертона: «Фанатик не тот, кто с жаром защищает свои убеждения и соответственно оспаривает то, что с ними несовместно, а тот, кто вообще не способен увидеть чужую идею как идею…» Да нет. Какой он фанатик… В кают-компании корабля российского флота ему перестали бы подавать руку. А если б не понял, не подал бы в отставку, то заставила бы пощечина… Лев Михайлович припомнил, как Шибаев говорил когда-то: в Минно-торпедном институте мешают работать группе по новой авиационной торпеде высотного торпедометания. Вот Алферов, видно, и мешал. Ишь как художественно описывает исколотые иглами руки мастериц, шивших парашют для «его» «ABA». Нет, было бы слишком просто отнести и Голикова, и Кулакова к фанатикам, размышлял Галлер, наблюдая, как они стараются растоптать человеческое достоинство Алафузова и Степанова. Да и Кузнецова тоже. Несомненно и желание угодить «начальству» — Сталину в первую очередь. Тогда и карьера обеспечена…
«Почему считаете, что ваши поступки есть раболепие и низкопоклонство, раскройте подробно, обстоятельно эти понятия!»[318] — говорил Кулаков Алафузову, и Льву Михайловичу казалось, что довольная ухмылка раздвигает его толстые губы. А затем, решив, что доза самобичевания Алафузова мала, обрушивался на его книгу «Боевое управление», вышедшую в 1942 году, с обвинением в преклонении перед иностранными авторитетами… Книгу, которую В. А. Алафузов готовил к выходу в свет, отрывая часы от сна, в желании довести до оперативных отделов флотов опыт войны на море — и наш, и зарубежный. И вот Кулаков напоминает: там, видите ли, были ссылки на немца Клаузевица! Ах, как ужасно… Потом, разделавшись с Алафузовым, стаей напали на Степанова — и он, будучи командующим Беломорской флотилией, а затем исполняя обязанности начальника ГМШ, оказывается, «преклонялся перед иностранцами». Председатель суда маршал Говоров даже бросил ему опаснейшее обвинение: «Вы… угодничали перед представителями иностранной разведки, позволяли им получать сведения, которые нанесли урон нашей мощи и нанесли серьезный ущерб государству…»[319] Неужели он и в самом деле так думает?