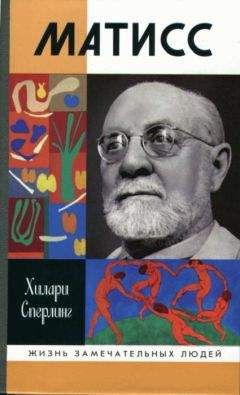В конце 1930-х годов Матисс вернулся к старому, наиболее привычному для него образу жизни — работал и спал в мастерской, чувствуя себя одновременно и пленником, и совершенно свободным. Наконец-то искусство поглотило его целиком. Любая мелочь, которая могла отвлечь Мастера, мгновенно устранялась Лидией, все еще очень смутно представлявшей степень международной известности своего патрона, не говоря уже о его прошлых достижениях[232]. Лидия ухаживала за его женой, вела всю его переписку, позировала ему в мастерской. Помимо этого на ней лежало управление домашним хозяйством и подготовка ежегодного переезда в Париж, каждый раз превращавшегося в настоящую экспедицию. Заказывались санитары-носильщики, которые вносили мадам Матисс в спальный вагон в Ницце и выносили из поезда в Париже; отдельное купе для Матисса, который теперь ездил в сопровождении двух собак и все увеличивающегося количества клеток с птицами.
Экзотических птиц Матисс начал приносить домой летом 1936 года. Скучая в Париже и бродя вдоль набережной Сены в ожидании приезда американского клиента, он случайно оказался на улочке за собором Нотр-Дам, где стояли лавки продавцов птиц. Восхищенный необычайной окраской, оперением и конечно же пением, он купил сразу пять или шесть птах и потом уже не мог остановиться. Художник говорил, что трели пернатых напоминали ему пение дроздов на пальмах у отеля в Папеэте. А еще они навевали воспоминания о певчих птицах в домах ткачей в родном Боэне и отвлекали от гнетущих мыслей. Птицы заняли в жизни Матисса такое же место, как обитатели Лондонского зоопарка в жизни Бюсси. Летом 1937 года, когда Матисс наконец-то пересек Ла-Манш, чтобы подготовить выставку в лондонском филиале галереи Розенберга, он набрался смелости и сам, без сопровождающих, поехал в зоопарк, где они с Бюсси договорились встретиться в павильоне бабочек. В руках у него на всякий случай была припасена записка, на которой печатными буквами было выведено: «BUTTERFLIES» («Бабочки»). Старым друзьям было за шестьдесят, но оба все так же были преданы живописи и так же не обращали особого внимания на входящие и выходящие из моды стили и направления. В окружении порхающих над ними роскошных бабочек они вспоминали о дружбе, начавшейся в мастерской Моро почти полвека назад и пронесенной ими через всю жизнь[233].
В начале зимы Матисс вернулся в Ниццу и сразу подхватил грипп, который перешел в бронхит, а затем пневмонию. Девять дней он был почти без сознания. Лидия неотлучно находилась при нем, каждый день, утром и вечером, приходил врач. Пьер в Нью-Йорке уже паковал чемоданы и собирался плыть в Европу, когда пришла телеграмма, что кризис миновал. Увидев, что температура наконец начала снижаться, Лидия не выдержала и разрыдалась. Матисс считал, что его спасли регулярные инъекции, обезвредившие яд, проникший в его организм из огромного гнойника. Мучительная ежедневная процедура вскрытия гнойника приводила в невероятное возбуждение птиц — особенно экзотического желто-черного дрозда, чей мелодичный свист, подобный звуку флейты, заглушал вопли пациента. С тех пор певчие дрозды стали любимцами Матисса.
«Он был одной ногой в могиле! — писала Берта в декабре
1937 года жене Пьера. — Моя сестра держится хорошо; она всегда проявляет мужество в критических ситуациях. Мы все в нашей семье такие. Мы — отважные люди». После того как Муссолини и Гитлер заключили союз, Пьер стал уговаривать родителей переехать подальше на запад, что из предосторожности поспешили сделать многие обитатели Ниццы. Однако Матисс не хотел уезжать с Лазурного Берега, хотя договор об аренде их квартиры на площади Шарль-Феликс истекал летом 1938 года. Вместо того чтобы бежать непонятно куда, он вдруг решил купить большую квартиру, точнее, две смежные, в огромном здании, возвышавшемся на северной окраине Ниццы на скалах Симьез. «Эксельсиор-Режина», последний и самый большой из императорских отелей, где в 1890-х годах проживала английская королева Виктория, опустел в 1914 году и долго стоял заколоченный досками. Потом его начали переделывать в многоквартирный дом и закончили реконструкцию в самое неподходящее время. Продать квартиры в преддверии новой войны владельцам дворца не удавалось даже по дешевке. Матисс стал первым и на тот момент единственным из желающих поселиться в «Режине». «Твоя мама в восторге, — сообщила в январе 1938 года Берта Пьеру. — Кажется, все невзгоды позади: у нее начинается новая, счастливая жизнь! Твой отец более сдержан».
В феврале Матисс опять заболел (на сей раз у него случился абсцесс во рту) и пришлось отправиться на консультацию к своему дантисту в Париж. Лечение затянулось до начала марта. Он по-прежнему был еще слаб — сказывались последствия тяжелой пневмонии; по настоянию Амели Лидия поехала вместе с ним. «Все в ужасе от последних действий Гитлера, — написал Матисс Пьеру, когда в марте Германия аннексировала Австрию и готовилась к вторжению в Чехословакию. — Большинство предпочитают об этом не говорить, поскольку не знают, что готовит им будущее, которого все так боятся». Он заторопился обратно на юг, в Ниццу, и перед отъездом вместе с Лидией прошелся по бутикам в районе улицы Боэси, где шла весенняя распродажа. Для пополнения реквизита мастерской весной 1938 года было куплено шесть вечерних платьев. На протяжении следующих десяти лет они станут главной «экипировкой» героинь его картин военных лет.
Нарядные туалеты Матисс будет использовать так же, как листы цветной бумаги, которые он прикалывал к холсту, — те и другие будут для него «строительными блоками». Конструировать картины из плоскостей цвета он начал, когда понял, что украшать своими росписями огромные поверхности ему не придется. Весной 1938 года, не надеясь увидеть свое панно «Танец» на стене Пти-Пале, Матисс согласился исполнить очередную версию «Танца» — на этот раз для Русского балета Монте-Карло. Музыку для нового балета — первую симфонию Шостаковича — художник и балетмейстер Леонид Мясин выбрали вместе, вдвоем придумали и либретто, лейтмотивом которого стала «борьба между белым и черным, между духом человека и его плотью» (с недавних пор символизируемая для Матисса песней черного дрозда). Художник сделал небольшие фигурки с конечностями-прутиками, наспех соединив их кусочками цветной бумаги, — получилось грубо, но впечатляюще. Затем выстроил игрушечный театр, чтобы продемонстрировать, как будут выглядеть декорации: три белые арки барнсовского «Танца», а за ними — залитое красным, черным, синим и желтым цветом пространство. У подножия этих арок должны были двигаться танцоры в красных, черных, синих и желтых трико, мелькая по сцене, словно полосы и пятна цвета. Хореография вторила сценографии Матисса — Мясин освободил пластику и движения от всего лишнего, из-за чего «Красное и черное» превратилось почти в абстрактный балет. «Le Rouge et le Noir», как «Песнь соловья» двадцать лет назад, открывал совершенно новое направление в творчестве Матисса.