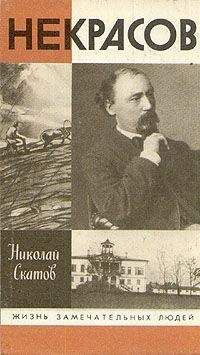Сколько поведал нам поэт об этих несчастных проститутках («Убогая и нарядная», «Еду ли ночью...», «Когда из мрака заблужденья...»), и всегда это была драма личная. Здесь же лишь упоминание проститутки, не задерживающее нашего внимания ни одним частным штрихом, обозначение всех проституток вообще, как обозначены и все вообще торгаши:
Торгаши просыпаются дружно
И спешат за прилавки засесть.
И здесь нет привычного обличения торгашей, только свидетельство — едва ли не жалость:
Целый день им обмеривать нужно,
Чтобы вечером сытно поесть.
Чу! Из крепости грянули пушки!
Наводненье столице грозит...
Кто-то умер: на красной подушке
Первой степени «Анна» лежит.
И «Анна» здесь не средство возвеличения (вспомним в «Секрете»: «Имею и «Анну» с короною», — самодовольно хвалился герой) и не предмет обличения (первая-то степень и делает ее особенно жалкой).
Дворник вора колотит — попался!
Гонят стадо гусей на убой:
Где-то в верхнем этаже раздался
Выстрел — кто-то покончил с собой...
Еще в первом стихотворении «Вор» из некрасовского цикла 1850 года «На улице» — тоже была изображена сцена поимки вора торгашом:
Спеша на званый пир по улице прегрязной,
Вчера был поражен я сценой безобразной:
Торгаш, у коего украден был калач,
Вздрогнув и побледнев, вдруг поднял вой и плач.
И, бросясь от лотка, кричал: «Держите вора!»
И вор был окружен и остановлен скоро.
Закушенный калач дрожал в его руке;
Он был без сапогов, в дырявом сертуке;
Лицо являло след недавнего недуга,
Стыда, отчаянья, моленья и испуга...
Какая в предельной детальности этой, развернутой картины («закушенный (!) калач») пристрастность, внимание, сочувствие.
В «Утре» — сообщение, равнодушное, едва ли не злорадное:
Дворник вора колотит — попался!
Гонят стадо гусей на убой.
В «Похоронах», ставших народной «жалостной» песней, есть опять-таки пристальное внимание к судьбе человека, необычайная в нее углубленность. Напомним, что первоначально биография несчастного самоубийцы рисовалась еще более тщательно.
Ныне опять-таки лишь «констатация факта смерти»:
Где-то в верхнем этаже раздался
Выстрел — кто-то покончил с собой.
Так что в «Утре» предстала смерть во всех ее видах, возникли подлинные, если воспользоваться поэтической формулой Александра Блока, пляски смерти: убийство («будет дуэль...»), просто смерть («кто-то умер...»), самоубийство («кто-то покончил с собой...»).
Однако самое страшное заключается не только в «размере» мрачных фактов. Ведь рассказано о делах в своем роде чрезвычайных — о «событиях»! Но сама исключительность их (смерть человека) поглощена обыденностью раз и навсегда заведенной жизни, фраза «начинается всюду работа» — экспозиция картины и определение ее обычности и повторяемости. Один из страшных смыслов заключен в этой уничтоженности обыденностью исключительного. Проблема и в том, что сама смерть уже не проблема. Отсюда — последняя жуткая, вроде бы неожиданная, но резюмирующая фраза:
Гонят стадо гусей на убой.
Именно с конца 60-х годов Некрасов становится все более европейским поэтом. И если раньше он скорее испытывал влияние и использовал мотивы «европейцев» (Беранже, Гейне, Гюго, Баррет-Броунинг...), то сейчас он если еще не оказывает влияния, то уже предупреждает мотивы европейцев: прежде всего Шарля Бодлера с его «Цветами зла». Первым это отметил у нас как раз поэт некрасовской выучки Павел Якубович. Именно Якубовичу следует довериться: он первый русский переводчик «Цветов зла». А вот и французское, не без изысканности, подтверждение Шарля Корбэ: «Еще до Бодлера он (Некрасов. — Н. С.) сорвал некоторые из «цветов зла», процветающих в отравленной атмосфере столиц».
Кстати сказать, как раз в конце 60-х годов Некрасов дважды выезжал в Европу: в 1867 году и в 1869-м. Не нужно думать, однако, что поэт погружался в европейские столичные зловонья, бродил по нищим подвалам и наблюдал жизнь бедных мансард. Это были богатые, удобные, комфортные путешествия, с сестрой и любовницей-француженкой, и курортные пребывания; в Дьеппе — с его морскими купаниями и в Киссингене — здесь лечилась надорванная голодными нехватками молодости и «гастрономическими» излишествами «старости» печень. Кем-кем, но человеком строгого режима Некрасов не был. «Теперь вот что, — делится он в письме с «милейшим друже», Александром Николаевичем Ераковым, к тому времени вторым мужем его сестры, — сегодня 12-ый день, как мы пьем воду, скучаем, голодаем, вина не дают, досыта наесться не позволяют, да и нечем, подымают в б ч. утра, укладывают спать в 9-ть. Чорт знает, что такое! И еще осталось нам таких 9 деньков, а потом, говорят, еще две недели надо остерегаться... опять ни пить, ни есть в привычной пропорции».
Вообще-то русские «привычные пропорции» обычно за границей соблюдались. «Поеду ли в Рим, не знаю, — пишет он еще в 1867 году из весенней Ниццы Еракову, но уже сыну — Льву Александровичу, — может быть, отправлю одних дам, а сам примусь за работу. Просто хочется работать, и каждый день просыпаюсь с каким-то чувством, похожим на сожаление 50-летней женщины о потере своей невинности. Но напьешься, и как рукой сняло! Это хорошо — не правда ли? А что еще в нас лучше, это то, что, находясь среди превосходной горной природы, — мы не забываем отечества, и в сию минуту передо мной икра и селедка, только что купленные, и мы сейчас намерены на деле доказать свой патриотизм».
Это, так сказать, непосредственные впечатления из поездки по Европе — в письмах. Непосредственных впечатлений от таких поездок в стихах — никаких. Но зато впечатления опосредованные и не немедленные — громадные.
Характерна одна грозившая стать трагическим событием, но, к счастью, оставшаяся экстравагантным эпизодом «французская» история, которая произошла с Некрасовым в конце 50-х годов, еще до его первой поездки во Францию. В 1856 году он опубликовал стихотворение «Княгиня». Толчком послужили многочисленные слухи и толки, распространявшиеся о судьбе известной русской красавицы аристократки, графини (не княгини) Александры Кирилловны Воронцовой-Дашковой (урожденной Нарышкиной), которая после смерти мужа, оберцеремониймейстера императорского двора, уехала в Париж, где и жила до смерти, в мае 1856 года, с новым мужем французом.