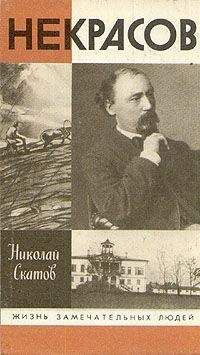Некрасовское стихотворение — рассказ о несчастной судьбе русской княгини, обобранной новым мужем и умершей в Париже в нищете.
Смерть ее в Париже не была заметна:
Бедно нарядили, схоронили бедно...
А в отчизне дальней словно были рады:
Целый год судили — резко, без пощады,
Наконец устали... И одна осталась
Память: что с отличным вкусом одевалась!
Да еще остался дом с ее гербами,
Доверху набитый бедными жильцами,
Да в строфах небрежных русского поэта
Вдохновленных ею чудных два куплета.
Да голяк — потомок отрасли старинной,
Светом позабытый и совсем невинный.
Естественно, в стихах Некрасова нет имен, и, может быть, упоминание о «строфах небрежных» русского поэта — единственная имеющая к Воронцовой-Дашковой отношение реальная примета: еще в 1840 году Лермонтов написал ей стихи.
И вдруг из Франции явились два француза — один из них — муж Воронцовой-Дашковой — с вызовом на дуэль. Некрасов вызов немедленно принял и даже съездил в тир — поднабить руку в стрельбе. Трусом-то Некрасов никогда не был. Кстати сказать, что и на медведей он ходил всегда один на один: с парой ружей и ножом. Иван Иванович Панаев пришел в ужас и повторял: нельзя допустить, чтобы был убит французом еще один русский поэт... Действительно: прямо рок какой-то. Пушкина убили: дуэль с Дантесом. В Лермонтова стреляли: поединок с де Барантом. Теперь за Некрасовым приехали: барон де Пуалли.
Повод для этой истории дал все тот же Дюма, который, возможно, соблазнившись «парижским» сюжетом, перевел и опубликовал в Париже «Княгиню». Видимо, работал и эффект, как сказали бы теперь, «испорченного телефона». Цепь:
Некрасов (автор) — Григорович (автор подстрочника) — Дюма (переводчик, а может быть, и пересказчик) замкнулась на де Пуалли («герой»).
В конце концов секунданты дело уладили. Если говорить о Воронцовой-Дашковой, то поведение мужа де Пуалли было безукоризненным: жена умерла в роскошном доме, а ее фамильные драгоценности были переданы дочери.
Если же говорить о стихах, то «княгиня» — это не графиня Воронцова-Дашкова: муж — не барон, потомки — «голяки», а не богатейшие, как у графини, люди — и сын и дочь. И может быть, самое любопытное, что к тому времени, когда «княгиня» умерла, графиня была если не здорова, то жива: она умерла в мае, а стихи Некрасова были опубликованы еще в апреле.
Любопытная сама по себе история эта демонстрирует и одну закономерность. Стихи Некрасова отчетливо персональны. Личная реакция де Пуалли характерна как следствие личного начала, присутствующего в стихотворении, то есть присутствия в нем личности.
В 1856 году искаженное восприятие события привело к дуэльному вызову в связи и защитой личной чести одного француза. В 1872 году удовлетворения по поводу обиженной национальной чести, чего доброго, могла потребовать вся современная официальная Франция.
Ведь черновой автограф стихотворения «Смолкли честные, доблестно павшие...» нес, хотя и зачеркнутое, заглавие — «Современная Франция»:
...Вихорь злобы и бешенства носится
Над тобою, страна безответная,
Все живое, все доброе косится...
Слышно только, о, ночь безрассветная!
Среди мрака, тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются,
Как на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются!
Другим заглавием было — «С французского». Оно отчасти указывало на источник — стихи из сборника Гюго «Страшный год», откуда пришло название и другого некрасовского стихотворения того же времени — «Страшный год»:
Страшный год! Газетное витийство
И резня, проклятая резня!
Впечатленья крови и убийства,
Вы вконец измучили меня!
О любовь! — где все твои усилья?
Разум! — где плоды твоих трудов?'
Жадный пир злодейства и насилья,
Торжество картечи и штыков!
Этот год готовит и для внуков
Семена раздора и войны.
В мире нет святых и кротких звуков,
Нет любви, покоя, тишины!
Источник этих стихов — Виктор Гюго установлен довольно давно, доказано, что стихи эти есть отклик на европейские события: франко-прусскую войну и зверское подавление Парижской коммуны. Как видим, если раньше Некрасов «в Италии писал о русских ссыльных», то теперь он в России пишет о французских расстрелянных. Стихи Гюго переводила брату А. А. Буткевич, но восприятие перевода для поэта явно облегчалось тем, как легко на почву русской жизни переводились события жизни европейской. К. И. Чуковский даже продолжал доказывать, что «Страшный год» — о русской жизни. Да — и о французской, и о прусской, и о турецкой, и о русской: стихи опубликованы в сборнике «Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины».
А «французские» стихи «Смолкли честные, доблестно павшие» и вообще в России до революции легально не публиковались явно из-за их «русского» содержания. И как только представился подходящий русский случай — а в 1877 году в Петербурге прошел так называемый «процесс пятидесяти», — так их немедленно к нему и применили: стихи были подпольно напечатаны с подзаголовком: «Посвящается подсудимым процесса пятидесяти».
Тем более что Некрасов и сам дважды передал их заключенным. Но и участники «процесса пятидесяти» должны были воспринять эти стихи с тем большей силой, что они относятся отнюдь не только к «пятидесяти».
Еще в 1868 году Некрасов, как бы обозначая новые точки отсчета и границы совершенно нового пространства, написал:
Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли,
Чаша с краями полна?
Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!..
Народники, перепечатывая эти стихи в своих изданиях, предпочитали слову «вселенское», очевидно, как более с их точки зрения отвлеченному, слово «народное», явно как более социально значимое. То, что народники сужали Некрасова до себя, неудивительно. Удивительно, что в ряде изданий и в наше время печатается «народное горе» вместо «вселенское горе».
Да, и у Некрасова в одном автографе было — «народное»:
Душно мне, словно в неволе,
Словно в могиле сырой,
Буря бы грянула, что ли?
Грянь! Разразись надо мной!
Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу народного горя
Всю расплещи...
Нетрудно видеть, однако, как укрупнен масштаб в окончательном тексте. В нем ощущение духоты — не личное, а объявшее всех. Слова «душно мне...» стали криком — «Душно!».