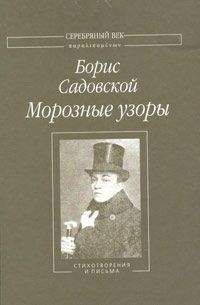Ольга Наровчатова
Во имя счастья, а не горя
Я нашла в бумагах отца толстую белоснежную тетрадь, на которой написано: «Николай Глазков». И в ней только тонкий лист с обращением и акростихами самого Глазкова, адресованными Сергею Наровчатову. Всю эту тетрадь отец собирался заполнить размышлениями и воспоминаниями о Глазкове. Увы, он не успел этого сделать. А сколько мог бы рассказать, какими интересными воспоминаниями поделиться!
Очень многое я слышала о Глазкове от моего отца, который с юности знал его, любил поэзию и вполне оценивал всю талантливую многосторонность и необыкновенность этого человека. Уже в двадцать с небольшим лет Сергей Наровчатов с прозорливостью будущего критика называл Николая Глазкова «явлением сильным и многообещающим», определив его своим спутником на всю жизнь. С фронта отец писал Глазкову нежные письма, делился своими мыслями, впечатлениями, верил в будущее. И, как бы общественная занятость ни отвлекала подчас моего отца от друзей, он — я знаю — оставался верен Глазкову. Это было пожизненно и взаимно.
Их с юности объединяли серьезные литературные споры и веселые, озорные досуги. Оба любили бродить по старой Москве, по ее бульварам и дворам, каждый по-своему остро чувствуя древнюю прелесть старинных стен, поэзию соборов, создаваемых суровой жизненной прозой, отполированную прочность булыжника, может быть, помнящего «казнь стрельцов… И елки синие на этой площади…». И все, отозвавшееся потом в прекрасных стихах Глазкова. И много лет спустя — в пронзительных стихах моего отца, стихах об ушедшей молодости и об ушедшей истории:
На улицах Москвы разлук не знают встречи,
Разлук не узнают бульвары и мосты.
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.
Со всех сторон я слышал ровный шорох,
Угрюмый шум забвений и утрат…
В Тамбове. Начало 70-х годов
Их объединяла любовь к истории, к своей стране, любовь к путешествиям. По-разному это тоже отразилось в творчестве каждого. Каждый из них сумел талантливо воплотить самые разные и самые крайние стороны русского характера, уходящего корнями в глубь веков: анархическая талантливая разудалость, широта Васьки Буслаева в поэме отца «Василий Буслаев», огромная потребность в самоусовершенствовании, жадная жажда знаний, углубленность в стихию Духа, силу которого Андрей Рублев черпает в любви к людям, к своей земле в прекрасной поэме Глазкова «Юность Рублева». Но в той и в другой поэме сияет мысль, выраженная словами Глазкова: «Пусть многогрешен русский человек, но русский человек могуч и свят». Это умение ощущать масштаб явления, восхищаться великой стихией характера человека, природы, я думаю, раздвигало границы их поэзии и во многом вело к широте мысли и чувства.
Их роднила и способность к необычайной фантазии, парадоксу, шутке, мистификации. Это сквозило всюду в их творчестве, пронизывало повседневную их жизнь, украшало ее, давало разрядку, веселило. Оба они были щедрыми на отношения, любили радовать людей. И делали это истинно талантливо, красиво, с выдумкой, с искрой, весело. Вот надпись Глазкова на его книге «Первозданность», подаренной моему отцу в марте 1979 года:
Прекрасному Сереже
На Сахалине осень
Авторитетна очень,
Ругать погоду бросим:
Она не так плоха.
Ворона здесь не каркнет,
Что лето здесь не жаркое,
А говорит: — Ха-ха!
Тут осень благодатная
Отрадна для стиха:
В ней что-то есть занятное,
Уютное, ха-ха!
Глазкову блистательно удавались акростихи и приносили много неожиданной радости его знакомым и друзьям. И абсолютно в характере всего стиля Глазкова оказалось самое последнее обращение его к отцу (и ко мне). Это — тоже акростих, «хвостатый сонет», но шутка, полная прозрачной, легкой грусти и мечты, тончайшего лиризма, нежности и поэтического умения, выше которого — талант. Талант, сплетаясь с этим умением, сиял здесь тихо и в последний раз. Да, это был последний раз. Нам с отцом посчастливилось быть последним объектом внимания Глазкова-поэта. Никакие слова не передадут ценности, редкости и катастрофической нежности этого дара. Так он завершил свою дружбу с отцом. Отца совершенно это поразило. Он сказал: «Уходя, он оглянулся на нас — и пошутил». Последний — и поистине трагический — парадокс в судьбе Глазкова!
Вот как выглядело это последнее послание:
«26 сентября — 3 октября[16]
Дорогой Сережа!
Прими от меня к своему славному юбилею акростих — хвостатый сонет и акростихи, посвященные Олечке.
С дружеским приветом
79
Глазков.
Третье октября
(сонет-акростих)Съездить можно по грибы,
Если чувствуешь природу.
Роща. Мощные дубы.
Ежик чует непогоду.
Желтоваты в речке воды,
Ежели не голубы.
Нет грибов для похвальбы,
А зовут, зовут походы.
Роща все еще жива,
Осыпается листва —
Величавая краса.
Что-то грустно стало вдруг,
А разбросаны вокруг
Таинства и чудеса.
Осень все-таки права:
В день большого торжества
Улыбаются леса!
Раздумья
1
О Лермонтове что сказать могу?
Люблю его могучую строку,
Есенин поравняться с ним не смог.
Чту чудо. Только он сумел взойти
К таким высотам лет до тридцати —
Единственный в шестнадцать лет пророк!
2
О доблестях, о подвигах, о славе
Любой чудак мечтать, конечно, вправе.
Еще не поздно. Радужна мечта.
Что будет, если смолкнут птичьи песни?
Когда мечта, как летний зной, исчезнет,
Ее тогда заменит пустота!».
Нельзя смириться со смертью. Особенно со смертью человека, в котором все живо, и до такой степени.
В поэме «Юность Рублева» монах Онуфрий, который был силен в иконописном ремесле, передавая Андрею секреты мастерства, говорил:
«…Среди камней отыщешь цвет любой.
Ну, а для краски ярко-голубой
Потребен редкий камень — лазурит.
Его нам от уральского хребта
Везут купцы, а здесь такого нет:
Поблизости земные все цвета,
И далеко от нас небесный цвет!»
Одним из редких качеств, встречающихся вообще в людях, было в Глазкове стопроцентное зрение души, способность очищать явления, видеть суть в ее первозданности, умение не обольщаться обманчивым, внешним, извлекать чистые цвета из смешанных и приближать далекий небесный цвет — цвет чистой души, окрашивая им земные дела и отношения. И недаром его последняя прижизненная книга называется «Первозданность».