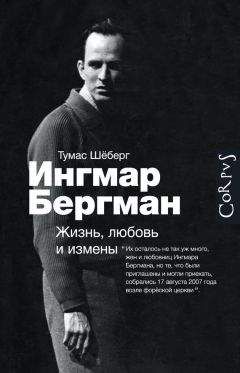Она умолкает и смотрит в потолок. Потом переводит ясный, прямой взгляд больших серо-голубых глаз на Анну. Лицо ее в жестком октябрьском свете, резко оттеняемом низким октябрьским солнцем, бледно. Нет, она не плачет.
— Мы прожили вместе уже почти пятьдесят лет. Мне было двадцать один, когда мы поженились. Если бы мы смогли вновь встретиться после смерти, если бы такая таинственная возможность существовала, то все это — внешнее — было бы легко нести. И смерть была бы облегчением, потому что Якоб освободился бы от своих страданий, а я — от трудного ожидания, но смерть есть смерть. Никаких загадок, никаких красивых тайн. Кстати, знаешь, что странно: в особо мучительные минуты мне в голову приходит утешающая мысль — развод был бы, если бы мы плохо с ним жили в браке, намного болезненнее. Но мы жили счастливо, поэтому...
Она молча курит, потом гасит окурок в пепельнице, вскакивает и расправляет юбку на костлявых бедрах.
— Спасибо, что выслушала меня. Знаешь, я не слишком-то люблю говорить об этом. Пойду посмотрю, не проснулся ли Якоб.
У двери она поворачивается и как бы мимоходом бросает:
— Я забыла сказать, что сегодня придет пробст Агрелль. Якоб хочет, чтобы тот его причастил. Он будет здесь в час. Я позову тебя через несколько минут.
Библиотека представляет из себя большую прямоугольную комнату с двумя окнами, выходящими на Эвре Слоттсгатан, вдоль стен — забитые книгами шкафы. Посередине стоит внушительных размеров заваленный письменный стол. Узкий дверной проем ведет во внутренние покои, где виднеется кровать с высокими спинками. У стола — кресло с мощными подлокотниками и высокой спинкой. В кресле сидит Якоб. Он в опрятном темном костюме, висящем мешком на его истощенной фигуре. Белый жесткий воротничок на несколько номеров велик, руки покоятся на подлокотниках — большие и бессильные, кисти высовываются из чересчур просторных манжет. Но узел на галстуке безупречен, высокие ботинки блестят, холеные седые усы. Ничто в старом господине не указывает на близкую смерть.
Анна целует дядю Якоба в щеку и обнимает его вместе с креслом, оба растроганы и чуть неуклюжи. Якоб кладет свою большую ладонь на ее волосы и прижимает ее голову к своему
плечу.
— Дорогая Анна, как хорошо. Дорогая Анна. Ты все такая
же. Дорогая Анна.
— Давно мы не видались. Правда ведь давно?
— Да, погоди-ка. Погоди, дай вспомнить. Мы встречались в церкви Хедвиг Элеоноры два, нет, три года назад. Хенрик произносил проповедь. Было просто-напросто Соборное воскресенье 1931 года, и ты, Анна, пришла туда с детьми и каким-то немецким мальчиком — разве не так?
— Да, с Хельмутом.
— Географически отдаляешься от человека, даже если расстояние не такое уж... Географически — да. Но не то — как бы это сказать, — не то чтобы это особенно задевало. По крайней мере не чувства. Я часто думаю о тебе, Анна.
— А я думаю о...
Они сейчас совсем близко, так близко, что видят лишь кусочек лица и глаза. Анна во внезапном порыве проводит рукой по щеке Якоба.
— Не стану жаловаться. Я живу хорошо, несмотря на весь этот кошмар. Только вот больно долго. Она не торопится, эта самая. Это мне за то, что я всегда был нетерпелив и в то же время ленив. Сейчас я вынужден напрягаться. Час за часом, минута за минутой. А я — я хочу быть на ногах, в костюме. Хочу почаще сидеть в этом кресле. Тогда мне легче дышится. Хотя порой бывает тяжко — здесь, среди моих старых книг. И Мария открывает окна, впуская холодный воздух, ты понимаешь. У меня крепкое сердце. Бьется и бьется. Как-то вечером оно заколотилось и встало — в раздумье, и я подумал — сейчас! Но не тут-то было! И я сделался морфинистом. Это самое прекрасное в этой длинной и тоскливой истории. Тебе, наверное, кажется, что я эдакий болтливый бодрячок, — так это потому, что мне недавно сделали укол, и это как рай — не могу вообразить себе ничего более милосердного. Сначала боль и муки, а потом никакой боли — одна эйфория. Так что приходится делить время на доброе и злое. Мария читает мне вслух по нескольку часов в день — я слишком измотан, чтобы читать, да и голова в тумане. Но мы читаем «Сокровище королевы»[ 85 ]. Иногда приходит органист Домского собора, этот, как его там зовут — видишь, Анна, какой я стал бестолковый, — вот, Аксель. Аксель Мурат. Приходит и играет на рояле в гостиной — в основном Баха, «Хорошо темперированный клавир». Хотя сейчас у меня нет потребности в общении, только устаешь. Друзья думают, что мне приятны гости, а это вовсе не так. Вот Мария и отказывает всем направо и налево. Одно лишь по-настоящему неприятно во всех этих неприятностях — то, что я не могу есть. Только чуточку жидкости, и это очень грустно. Я вспоминаю времена, когда был обжорой и настоящим чревоугодником. Наесться до отвала, вкусно поесть и вкусно выпить. Иногда, когда я остаюсь один (и, конечно, если боли терпимые), представляю себе разные блюда. Да, это, верно, кара, ведь обжорство — один из смертных грехов. А как ты, Анна? Как дела?
Вопрос прямой, задан строгим голосом и сопровождается испытующим взглядом. Прошу, мы перешли к делу. Анна колеблется, она в смятении, покраснела.
— Что вы имеете в виду, дядя Якоб?
— То, что я спросил, и ничего больше. Как дела?
Тон нетерпеливый, не приемлющий уверток. Отвечай же, прошу. Анна не решается, на какое-то мгновение ее накрывает тенью гнева, и она говорит, что ничего особенного, все как обычно. «Все хорошо, было бы неблагодарностью жаловаться. Да, и дети здоровы. У мамы было воспаление легких, но она уже поправляется. А Хенрик в большом напряжении в связи с предстоящими выборами настоятеля — ну да вы знаете. Решение правительства затягивается. Энгберг против, но старый король, похоже, хочет Хенрика, вот назначение и отложили, как это называется. И это, конечно, действует на нервы».
Старик делает нетерпеливый жест, проводит рукой по лицу и, саркастически улыбнувшись, откашливается.
— Коммюнике мне ни к чему. Я хочу знать, как вы живете, ты и Хенрик, как все уладилось. Мы не говорили серьезно десять лет. Так что, возможно, пора. Я где-то прочитал, что Тумас женился, и я слышал, что он получил назначение в окрестностях Уппсалы.
— Я тоже слышала.
— Какая ты стала немногословная, Анна. Разве я не достоин того, чтобы узнать, чем все кончилось?
— Достойны, только не знаю, есть ли о чем рассказывать.
— Я попросил Марию связаться с тобой потому, что не хочу сходить в могилу, не зная, чем кончилось дело. Анна, я всегда считал тебя моим ребенком, моей дочерью. Не проходит дня, чтобы я не думал о твоей жизни. Я отметил, что брак не распался. Много раз я собирался поговорить с тобой. Но я — ленивый и непредприимчивый тип, который охотно отодвигает в сторону все, что может нарушить его покой, так что я, как обычно, откладывал и откладывал, пока вдруг все не ушло в далекое прошлое. Но вот теперь. В долгие часы болезни наша беседа всплыла в моей памяти и не давала мне покоя. И в конце концов я попросил Марию разыскать тебя. И сейчас, Анна, мы с тобой здесь, лицом к лицу. Время настало.