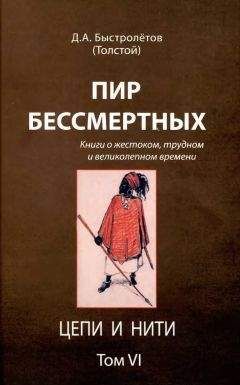Мне стало грустно.
— Окрошка великолепная, ты, Анечка, не жена и не верный дружок, ты — подарок и утешение, ниспосланное мне небом.
— Нет, не делай из меня героиню. Я — советский человек. Я несла два кувшина: один сунула стрелку на вахте, другой — пронесла тебе. Помнишь слова Грекова? Все мы производные наших порядков! Ешь, детка! Или тебе не нравится?
Я медленно хлебал квасок и медленно говорил, полузакрыв глаза:
— Я не пробовал кваса почти десять лет. Окрошка кажется мне божественной. Анечка, она — из другого мира.
— Ба! Пустяки! Через год я выйду на свободу и пришлю тебе кое-что получше. Хочешь плитку шоколада?
— Нет, Анечка. Ни через год, ни через десять лет я не буду на свободе. Мне положено умереть здесь. Я хочу жить как во сне. А эта окрошка будит меня, заставляет вспоминать старое. Не надо меня будить, Анечка! У нас разные судьбы — ты уйдешь, и жизнь заставит тебя забыть лагерь так, как мы, лагерники, постепенно забываем вольную жизнь. Вчера я не мог нарисовать слона в художественной мастерской. Я, художник, который в Африке видел слонов стадами! Воля медленно умирает во мне, и эта окрошка мешает спокойному умиранию!
Анечка бросила ложку.
— Молчи! Я не могу этого слушать! Отец народов умрет раньше тебя и меня, и мы вместе будем бродить с тобой по Москве! У нас будет недурная комнатка! Слушай, настанет день, когда мы с тобой сядем в поезд и поедем за границу!
— Куда?!
— За границу! Странно звучит? Напрасно улыбаешься! Мы поедем в твою любимую Прагу. Вместе поедем туда отдыхать!
Это прозвучало как удар по голове.
— Ты с ума сошла! — сказал я, инстинктивно прикрываясь рукой.
— Ты не веришь?
— Нет. Сталин здоров, он кавказец, у него в руках вся медицина мира. Он нас всех переживет.
Я опять стал хлебать окрошку.
— Когда-то ты этого не говорил, — сказала Анечка. — Ты верил, и вера держала тебя на ногах. Ты закачался потому, что перестал верить.
— Во что? Мне надоело верить. Мою фамилию в центре два раза вычеркивали из списка людей, выдвинутых здесь на досрочное освобождение.
— Ну и пусть! Я верю в тебя, ты должен верить в меня. Я освобожусь и добьюсь твоего освобождения! Ты верь в наше будущее! Веришь?
Я покачал головой.
— Верю, но сомневаюсь!
— А я верю без оговорок. Я вытащу тебя отсюда.
Некоторое время мы ели молча.
— Вчера мне пришлось быть в детских яслях, — начала Анечка, — дети лагерных яслей — интересный материал для психиатра. Дураки думают, что человек рождается человеком. А ясли для несчастных вольных детей наших заключенных матерей доказывают, что человек рождается только двуногим животным, а человеком его делают другие люди. Врач Мухина и заключенные няньки ходят на работу только для того, чтобы объедать детей. От жира они едва проходят в двери. Они счастливы. А детям нужна еще и человеческая речь, уход, понимаешь ли, игрушки, рассказы, книжки. Без них растут бледные уродцы. Почти немые. Ведь с ними там никто не занимается. Они в яслях лишние. Только мешают воровать.
— А разве игрушек у них нет?
— У дверей я долго наблюдала за одним мальчиком. Он сидел у плиты на полу и играл с куском торфа и топором. Других игрушек не было. Ребенок производил впечатление немого идиота. Наверное, он еще ни разу в своей жизни не засмеялся!
— Однако же самые нужные слова они уже знают, — сказал я, закуривая. — Недавно одна мамка стояла у штаба с ребенком на руках. Тот играл ее косынкой и уронил на землю. Начальник проходил и поднял. Подал ребенку с улыбкой и потрепал по щеке.
Ребенок посмотрел на него по-волчьи и насупился. «Ну, что же ты молчишь? Вот гражданин начальник тебе поднял платок, что ему надо за это сказать? А?» Ребенок насупился еще больше и вдруг четко и ясно скомандовал: «Внимание!» Как барачный дневальный! Ужасно, а? Растет вольный ребенок с психологией и навыками заключенного.
Анечка тряхнула головой.
— Я вырву тебя из этого ада!
Едва мы успели восстановить наше зеленое прикрытие и забраться в него, как завыла рельса и самоохранники врассыпную побежали по зоне.
— На проверку! Выходи!
Мы пригляделись в щелочку.
— Ну, Фуркулица с трубкой на месте, — прошептала Анечка. — Все в порядке! Продолжай рассказ.
Я вздохнул. Не легко из лагерного бурьянного шалаша перенестись в далекую вольную жизнь!
11
Свежий ветер долго мотал «Преподобного Сергия» вдоль берега, а когда наконец нам удалось юркнуть в какой-то маленький порт, то выяснилось, что судно попало к туркам-кемалистам: мы очутились на другой стороне огненной черты, разделяющей два мира, и толстенькие проходимцы в котелках потеряли над нами власть.
Нам это никогда раньше не приходило в голову. Капитан дотянул дипломатические переговоры до позднего вечера, а под утро мы бесшумно подняли паруса и неожиданно ускользнули в туманное море. Взяли курс на запад, чтобы найти линию фронта, перебраться с восточной на западную сторону и продать наши баночки в другом мире и там же погрузить беженцев.
Но я отвел боцмана Женьку в сторону и, многозначительно понизив голос, прохрипел:
— Ты знаешь, что надо делать?
— Что?
— Дурак. Бунт!
Женька был младше меня. Он посмотрел на меня сбоку.
— Правда? А я не догадался! А ведь за это могут повесить.
— Надо все обтяпать получше, понял? Мы поднимаем восстание!
Вдвоем поднимать бунт даже на маленьком судне было бы опрометчиво: Август и Мартин — преданные друзья капитана. Эти трое во всех случаях будут выступать вместе против нас. Мы с Женькой, боцман и кок, — руководители. Но нужно выиграть массу, привлечь ее и противопоставить тем троим. В течение часа или двух мы по одному поговорили со всеми. Коча-татарин, Христа-грек, Селим-араб и Юсуф-турок, как это ни странно, не сговариваясь между собой и не моргнув глазом, выдвинули другое деловое предложение — троих эстонцев выбросить за борт, корабль продать кемапистам, предварительно уничтожив документы и соскоблив с кормы номер и название порта приписки, а самим податься в Константинополь и по прибытии купить на толчке другие паспорта. За судно можно было сразу же получить тысяч шесть лир, а нас шестеро: значит, придется по тысяче на нос.
— Выходит, что нужно все самим брать в свои руки! — прошептали мы друг другу, когда обед сварился и Женька забежал ко мне снять пробу. В три минуты мы составили план действия.
Капитан, как всегда, вышел перед обедом подышать свежим воздухом «для аппетита», как он говорил. Пока он стоял в туче холодных брызг, обозревая безрадостный горизонт, сосал ядовитую трубку и усердно мочился через борт, я понес ему в каюту хлеб и холодную закуску к рюмке крепкой дузики — анисовой водки, которую на Востоке полагается доливать водой, от чего она становится белой, как молоко. Попутно ловко стянул из стола браунинг. Подал капитану мыло и полотенце, усадил его за стол и принес объемистую миску горячего супа.