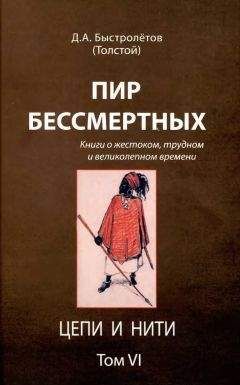Потом схватил лом, а Женька браунинг, мы распахнули дверь в рубку и разом заорали:
— Руки вверх!
Капитан не спеша поднял на нас белесые глаза:
— Цто? Вы закрывайт двер с той сторона. Когда обедовайт, я не разговаривайт. Дело мозет подоздать.
И начал хлебать суп. Мы опешили.
— Вы арестованы! На судне переворот! Поняли?!
— Ну и цто?
Капитан невозмутимо хлебал суп дальше.
— Да вы слышите?! Вы арестованы!!!
— Ну и цто? Вас будут весить. Кок, бросайт лом и давайт рагу и компот. Дверь закрывайт. Дует.
Мы растерялись. Закрыли дверь. Я принес рагу и компот.
Снова закрыл дверь. Потом, посовещавшись, мы постучали и вошли. Сняли колпаки и, вежливо направив капитану в грудь дуло и лом, объяснили, что судно ложится на норд-норд-вест и идет к большевикам в Севастополь, потому что вчера турки сообщили, что Врангель бежал из Крыма и Севастополь к нашему приходу будет занят красными.
— Ну и цто? — хладнокровно ответил эстонец и не спеша налил себе еще рюмку дузики. — Боцман, вы отвецайт за судно. И за курс. Карты здесь. Я отдыхайт после обеда.
Он улегся на койку, накрылся, повернулся лицом к переборке и засопел, как невинный младенец.
Узнав об успехе социальной революции и переходе власти в руки трудящихся, хмурые эстонцы, Август и Мартин, переглянулись, но остались такими же хмурыми, как и раньше, и не проронили ни слова, а матросы палубной команды сначала хотели поднять шум и затеять общую драку, но, сообразив, что раз их судно свободно, то работать не надо, быстро успокоились, раскупорили один из бидонов с чистым спиртом, который мы всегда возили для спекуляции, наварили ведро крепчайшего и сладчайшего чаю, благо, его хватало, — целый трюм! — наполовину сдобрили спиртом и затеяли пир. Стоять на вахте все четверо наотрез отказались. Для теплоты закрыли люк кубрика, и скоро оттуда, как из-под воды, понеслись невероятные звуки объединенной греческо-татарско-арабско-турецкой песни. Эстонцы, узнав о происшедшем, тоже заперлись в своем машинном отделении и потом вдруг остановили мотор и знаками через иллюминатор дали нам понять, что он испортился. Капитан спал не просыпаясь. Палуба опустела, трудовая жизнь на ней замерла. В уборную мы пропускали всех по одному, под дулом пистолета.
Мы остались с Женькой вдвоем, лицом к лицу со свободой.
Когда Христа-грек, выхлестав четверть ведра пунша, выполз наверх к борту, я стоял у руля, Женька закрыл люк в кубрик, запер его и выразительно, так сказать в лицах, показал греку, как вчера он, Христа, когда кемалисты принялись его вешать и уже надели на шею петлю, побледнел и шлепнулся на колени и рыдал, вымаливая жизнь, и как он, боцман, отбил своего матроса, доказывая, что русские греки прибыли в Россию еще до рождества Христова и за греков из Греции и Турции ни в какой мере не отвечают, турок-кемалистов любят, а греческих греков и французов ненавидят. Стоя на коленях с текущими по щекам слезами, Христа даже начал сипло тянуть какие-то стихи из Корана, а Женька, как фокусник в цирке, тыкал в него пальцем и повторял: «Видите? Слышите?» Турки смутились и развязали петлю. А теперь Христа уже забыл добро?!
Христа молча надел бушлат, непромокайку и колпак, и втроем мы подняли паруса и легли на курс, благо, ветер был южный, ровный, как раз такой, какой надо. Лица Августа и Мартина вытянулись и сейчас же скрылись в иллюминаторе машинной рубки — их шахматный ход не удался. А мы втроем, почти не отдыхая, повели судно к советским берегам наискосок через все Черное море.
Воздух сильно похолодал, а вода оставалась еще теплой, и над злыми черными волнами заклубились клочья молочного тумана. Пришлось готовить еду и одновременно каждые пять-десять минут бить в колокол — мы не хотели попасть под какой-нибудь врангелевский или английский корабль. Еще бы! Во время недавно перенесенного шторма, уже вблизи самого входа в Босфор, нас едва не подтащило ветром под английский линкор «Черный принц». Ярко освещенный тысячью лампочек огромный стальной утюг, даже не покачиваясь, прорывал свой путь в бесновавшейся воде, а наша потерявшая управление, набитая людьми деревянная коробочка слепо тащилась ему наперерез. Я тогда стоял в кубрике в плеске качающейся воды и, отбиваясь от плавающих сапог и одеял, черпал воду своей самой большой кастрюлей, а Христа держался на трапе, принимал кастрюлю и выливал воду в непроглядную темноту туда, где, бешено рыча и все ломая на своем пути, через палубу катились гребни волн. Мышцы спины через десять часов такой работы у меня устали, а еще через десять часов — мучительно заболели и еще через десять, казалось, стали рваться на части. Я работал и работал без отдыха, подгоняемый сначала отчаянием, потом нечеловеческим автоматизмом такого труда, — ведь я трое суток не спал, не ел, не пил и не отдыхал ни минуты. А вода все прибывала — сначала она была мне по колено, потом по пояс, потом по грудь и выше, — судно погружалось в воду, и в темноте сквозь рев ветра и воды я слышал звериный вой людей, запертых в темном трюме. Вот тогда к нам нагнулся Женька и протянул фонарь и коробку с тремя спичками. Я зажег лампу, но она мгновенно задувалась ветром, едва только Женька поднимал фонарь над палубой. Раз… Два… Три… А больше спичек не было. Мы уцелели тогда случайно, как матросы всех стран и морей говорят — чудом…
Теперь я упорно бил в колокол, и унылые звуки тонули в холодной мокрой мгле. На третьи сутки поздно ночью туман рассеялся, и мы увидели редкие огни, какую-то бухту с низкими берегами, очертания рыбачьих баркасов. Вошли в рейд. Бросили якорь. Мгновенно заснули. Все до одного.
Под утро услышали тихий плеск весел… Осторожный стук лодочных бортов об обшивку судна…
И вдруг резкий топот сотен ног на палубе… Резкий рывок… Люк открыт! На нас направлены десятки винтовочных дул, и чьи-то голоса дружно орут по-русски:
— Сдавайтесь, белые гады!
Мы дома! Переход закончен: все удалось как нельзя лучше!
Бидоны разрублены топором и поставлены рядом около бочки с ледяной питьевой водой, которую бойцы вмиг доставили с берега. Каждый из очереди черпает пол-кружки спирта, полкружки воды, пьет, крякает, утирает рукавом боевой шинели рот и малиновый от холода нос и степенно отходит в сторону. А тем временем писарь штаба Железной латышской дивизии отстукивает благодарность командования Женьке и мне за привод в Евпаторию из-за границы хорошего и очень нужного судна и за передачу трудовому народу столь ценного груза чая и сахара. Довольны все, даже капитан Казе: его чуть было не расстреляли, когда разбудили под утро и вывели из рубки. Но боцман и я решительно заявили, что мы все старые опытные большевики и действовали сообща. Как в Турции был отбит у турок грек Христа, так тут, в красной Евпатории, мы отбили у латышей капитана Казе. Ход этот оказался удачным: капитан добром отплатил нам за добро позднее, когда мы опять встретились на том же Сели-базаре в Константинополе: он нас не выдал и англичане нас не повесили.