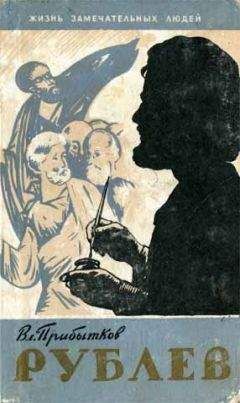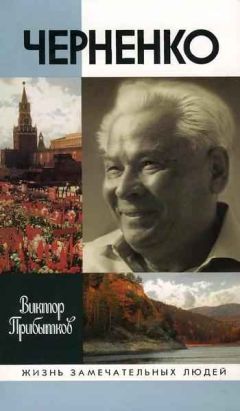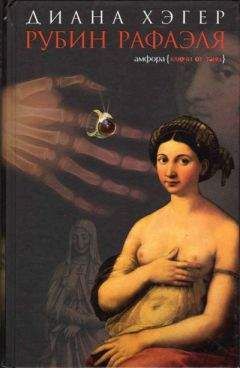А вон та обожгла взглядом и опять смиренно перебирает раскинутые бойким купцом полотна, щупает, переворачивает ткань, но ясно — ко всему прислушивается, все замечает и косит, косит тебе в спину осторожными глазами.
Шевелится, орет, гудит, пытаясь сдвинуться с места и не двигаясь никуда, огромный торг. Возы с капустой, репой, сеном, с мешками ржи и овса, дуги, крашеные и простые, звонкие, как гусли, певучьи, как скоморошьи дудки, а там — корчаги, паневы, сафьян, пуговицы вольячные, перстеньки из скани — девичья радость, блюда резные, блюда с финифтью, пироги мясные и рыбные, щи да лапша, да духовитые каши, да квасы, да сбитень.
— Купи! Купи!
Грохочет на бревенчатой мостовой расписной боярский возок. Щелкают бичи над запряженными гуськом конями.
— Э-ге-ге-ге!
Из оконца рука в широком бархатном рукаве сыплет милостыню. Нищие ползут на коленях, хватая рассыпанную подачку.
— Спаси тебя господи… Спаси тебя господи…
А за углом свалка. Кого-то бьют. На помощь человек не зовет. Видно, тать.
Тать помощи не ждет.
Синее небо. Легкая, но крепкая паутина. Дымящиеся посреди улиц свежие конские котяхи. Толчея, говор, шум, и вдруг над резными коньками теремов, над шумом и говором — бум! бум! бум!
Обрывая людей на полуслове, с великокняжеского двора несут густой звон недавно устроенные сербским мастером Лазарем часы — хитрейшая штука, знающая, когда полдень и полночь, размеряющая день на равные части и устрашающая неразумных…
Отбили часы, и снова кипит, живет Москва! Живет!
И Андрей чувствует: и давешний кузнец, и бондари, и величавая баба с ведрами, и та, другая, с полотном, и корявая мостовая, и Лазаревы часы, и терема, и это небо — все: отец и мать, родина, то, что дается человеку однажды и навсегда…
Люди оборачиваются вслед молодому чернецу, бредущему не разбирая дороги, будто ослепшему и блаженно улыбающемуся всем встречным.
Юродивый, что ли?
И на всякий случай крестятся.
А он ходит от терема к терему, от одной тесовой церквицы к другой и каждый раз открывает новые чудеса: там удивительной резьбы крыльцо с изображениями зверей и птиц, там невиданного письма икону, там заставляющую трепетать его сердце роспись стен.
Андрей ласково усмехается наивным, ярко и аляповато раскрашенным зверюшкам на крылечках домов.
Скорбно поднимает брови перед ликом богоматери, чьи печальные глаза и распахнутые руки говорят о готовности отдать сына человеческому роду во искупление вечных грехов.
Долго стоит в Архангельском соборе, переводя взор с икон греческого письма на иконы русских мастеров.
Щурится. Покусывает губу.
Византийцы рисуют лучше, и краски у них согласней. Но наши — мягче, добрей, хотя и не выучились находить для своей доброты нужных сочетаний линий и цветов.
И вдобавок у тех и других нету чего-то единого, цельного, что ищет он сам.
У кого же учиться?
Среди суровых, аскетических ликов, нарисованных выходцами из Византии, яркими искрами сверкают иконы русского северного письма.
Говорят, их делали новгородцы.
Святые и подвижники новгородцев ближе сердцу Андрея. В них есть человечность, они глядят на людей добрыми, участливыми глазами и сами просты. Но порой чересчур просты и опять написаны менее искусно, чем греческие.
И не могут, не должны быть святые, думает Андрей, столь земными и немудреными.
Ведь им открыты истины и тайны бога, они знают, к чему вести людей, а у новгородцев апостолы и отцы церкви смахивают на рыбарей и пахарей, каких встретишь на каждом шагу.
Истина же на земле не валяется, понять жизнь и возвыситься до подвига может — увы! — не всякий рыбарь и пахарь.
Простой люд невежествен, блуждает по миру с закрытыми очами и нуждается в поводырях.
Новгородцы правы только человечностью, но не правы воплощением ее.
Нет. Так писать нельзя.
Но как?
Как?
В это время судьба сталкивает Андрея Рублева с живописью Феофана Грека и с самим замечательным художником.
Это как вспышка молнии, как внезапный удар грома, способные смять, смутить, подчинить себе любую недюжинную натуру.
Это искусство, какого еще не было и какое невозможно было предполагать.
Феофан Грек оглушает.
Он столь необычен, что спор с ним кажется невозможным, а твой собственный дар, все сделанное тобою до сих пор — малым и ничтожным. И первые дни после знакомства с работами Феофана Андрей ходит разбитый, почти больной и не может прикоснуться к краскам.
Не меньше его смущен и Даниил.
Подобной смелости не знали ни тот, ни другой, хотя и слышали о Феофане много еще задолго до прибытия в Москву.
Воистину, одно — слушать рассказы, другое — узреть чудо самим.
Феофан же Грек — подлинное чудо.
Не зря Москва бредит им, и любой сбитенщик, последняя просвирня знают художника в лицо, а знатные люди почитают за счастье посмотреть, как пишет старый мастер.
Говорят, Феофана это не смущает, он умеет работать даже окруженный толпой и в это время разговаривает с людьми, шутит будто ни в чем не бывало.
И пишет, не заглядывая ни в какие старые прописи, а так, как самому подумалось и увиделось.
Уж это-то вне сомнений. Боги и подвижники Феофана ничем не похожи на богов и подвижников других иконописцев. Каждый лик — феофановский лик, и его не спутаешь с иными.
Нет! Не спутаешь!
Москва славит Феофана. Иконописцы старательно перерисовывают его дивные образы, надеясь усердным подражанием постичь тайну поражающего сердце искусства.
А Андрей Рублев не прикасается к краскам.
Еще и еще разглядывает работы Грека.
Молчит.
Мечется ночами по келье.
Даже с Даниилом разговаривает отрывисто.
Бросается к писанию, а от писания — к своим прежним работам.
Иногда потерянно сидит, уронив большие руки меж коленей и безучастно глядя в одну точку.
Но потом вскакивает и нетерпеливо собирается в новое хождение по храмам…
И однажды Даниил застает его на берегу Яузы грызущим сухую травинку, усталым, но спокойно улыбчатым, просветленным и тихим.
Он понял.
Он одержал победу.
Одержал победу задолго до боя, который ему еще предстоит и в котором победителем все-таки признают Феофана.
Он стоит в преддверии зрелости.
У нас могут еще существовать сомнения относительно характера Андрея Рублева и внешних проявлений этого характера в повседневной жизни, но не может быть и нет сомнений в основных мотивах и звучании его раннего творчества.
Так называемое «Евангелие Хитрово», возможно украшенное Андреем Рублевым еще в пору послушания у Никона, открывает внутренний мир живописца достаточно полно и широко, показывает истоки его творческой манеры и ее самое вполне глубоко.
В инициалах и миниатюрах «Евангелия» на первый план прежде всего выступают мягкость, нежность художника как в изображении явлений живого мира, так и в передаче символов евангелистов.
Инициалы, выполненные в виде фигурок птиц, змей и фантастических животных, исключительно изящны, и это благородство, эта жизненность формы, как всегда в подлинном искусстве, делают даже отвратительных гадов и драконов приятными для глаза, привлекают к себе, пробуждают высокоэстетические чувства.
Орел — символ евангелиста Иоанна — похож у Рублева на кроткого голубя. И дело, конечно, не в том, что молодой живописец никогда не видел живого орла. Если он знал античные мотивы, отраженные им в инициалах, то мог видеть и реалистичные рисунки орлов, представлял себе этих могучих, царственных птиц в конце концов хотя бы по иописаниям.
И не в том дело, что Рублев не сумел с достоверностью воплотить подлинный облик сильной птицы на пергаменте. Рисовал Рублев и в эту пору отлично. Но просто он считал необходимым и орлу придать черты доброты, безобидности, мягкости. Считал необходимым!
А изображение ангела — символа евангелиста Матфея — не зря расценивается искусствоведами самой замечательной из миниатюр «Евангелия Хитрово».
Возможно, именно тут Андрей Рублев нашел впервые тот мотив, который станет определяющим в его шедеврах, — композиционный мотив круга.
Образ чистой, неувядающей красоты, кудрявый юноша вписан Андреем Рублевым в точный круг очень гармонично. Контур обрамления как бы обращает стремительное движение ангела в умиротворенный покой, подчеркивает неизменность изменчивого, вечность преходящего.
Тонкие оттенки голубого и лилового обращают фигуру ангела в парящую, невесомую.
Чтобы показать самостоятельность Андрея Рублева в решении такой трудной темы, очень удачно сравнивают его миниатюру с ангелом из иконы «Благовещение» конца XIV века, носящую ярко выраженный византийский характер.
Порывистая фигура ангела из «Благовещения» вся в беспокойных бликах, вся иссечена ими, ее стремительные, прямые линии призваны усилить общее впечатление внутренней взволнованности вестника, его беспокойство и духовную напряженность.