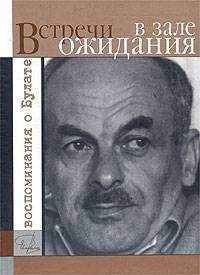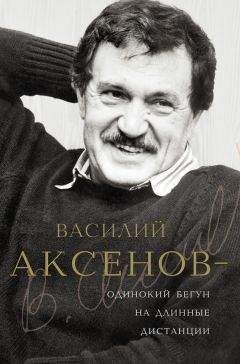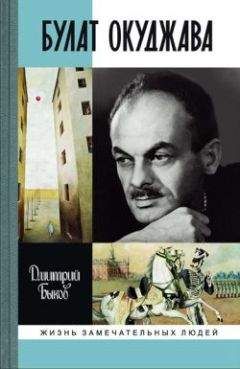Я думаю, что если бы с приходом перестройки Булат не принимал близко к сердцу политические реалии, если бы он понимал, что без грязи политическая ломка, да и вообще политика не обходится никогда, его «надежды маленький оркестрик» продолжал бы спасительно звучать в самом Булате. Ведь писал же искрометные комедии испанец Лопе де Вега в эпоху Филиппа II, изувера и деспота, когда пылали костры и властвовала инквизиция. Ведь писал же прекрасные стихи Пастернак в эпоху коммунистов, когда его громил Хрущев за «Доктора Живаго», не читая романа. Да и сам Булат во все послесталинские годы сумел отыскать независимую нишу, назвав себя «московским муравьем». И как положено муравью, он тащил на своих хрупких плечах огромную ношу, протягивая связующую нить великой культуры прошлого к будущему России, поддерживая в нас веру и любовь к ближнему.
Вхождение Булата непосредственно в политику, на мой взгляд, ослабило энергию его творчества. Усталость Булата в последние годы была связана именно с тем, что он глубоко переживал крушение идеалов демократии в народе. В споре поэта-политика Рылеева с Пушкиным я на стороне последнего…
Булата угнетала боль за то, что к власти многих политических деятелей первых лет свободы привели корыстные устремления, прикрытые лицемерием. А народная темнота только еще больше сгустилась. Всё это Булат пропустил через свое сердце, которое не выдержало. Тем не менее и политические стихи Булата несут печать его неповторимого гения. Хотя и не участвуя в политике, бульшую часть своей жизни и творчества Булат делал самую большую политику – влиял на умы и приближал крушение страшной системы советского мракобесия.
Меньше чем за год до кончины Булата я несколько раз заезжал его навестить в Безбожный переулок. В мае 1996-го поздравил с приближающимся днем рождения, поскольку сам должен был уехать. Мы сидели в лоджии вдвоем. Среди разговора он вдруг наклонился ко мне:
– Знаешь, Володя, я уже не верю, что что-нибудь получится. (В контексте разговора подразумевались реформы в России.) Идет тихая реставрация…
Когда он собирался ехать в Германию, позвонил мне, но я был в отъезде и отвечала жена. Он сказал ей:
– Так не хочется ехать…
Людмила ответила простодушно:
– Ну и не езди.
Последняя подаренная мне и моей жене его книга «Чаепитие на Арбате», надписанная 5 мая 1997 года, заканчивается маленькой поэмой «В карете прошлого». Две последние строки, на которых кончается книга:
Да не покинем дома своего,
Чтоб с нами не случилось бы чего.
С Булатом случилось бессмертие. Он был и остается совестью русской интеллигенции XX столетия. Вместе с Пастернаком и Мандельштамом, Ахматовой и Бродским. Они не дали порваться связи времен, обрубить нить гуманизма, связующую век прошлый с веком грядущим.
Евгений Евтушенко
«ЗАХОДИ – У МЕНЯ ЕСТЬ ДЖОНДЖОЛИ»
Даже при плохой слышимости по телефону мне не нужно было догадываться, кто мог произнести это магическое слово, бывшее сорок лет назад кодом нашей дружбы.
Джонджоли – это грузинская трава с крошечными бубенчиками на тонких стеблях, которую маринуют в стеклянных банках, где она становится похожа на водоросли цвета хаки. Вкус у нее горьковато-кислый, и нет лучше закуски под белое сухое вино, чем джонджоли с малосольным сулугуни.
Когда-то в мои юношеские годы эту траву еще подавали в «Арагви», но потом она исчезла, и, может быть, единственным человеком в Москве, у которого водилось присылаемое ему грузинскими родственниками джонджоли, был Булат Окуджава, всегда приглашавший меня на этот понятный очень немногим маленький пир.
У нас было о чем вспомнить за джонджоли.
Шестидесятые годы были годами взаимосоздания поэтов и читателей. Мы заново создавали читателей поэзии, высказывая вслух то, что думали они, а они создавали нас своей поддержкой, хотя порой она им дорого стоила. За распространение пленок с песнями Окуджавы или моей самиздатовской «Автобиографии» исключали из комсомола, из университета, увольняли с работы, налагали взыскания в армии. Мы были первыми додиссидентскими диссидентами в то время, когда Сахаров был привилегированным засекреченным специалистом, Солженицын – никому не известным учителем, бывшим зэком, а Бродский – школьником.
Общественная сцена была пуста, за исключением замаячивших на ней нескольких худеньких фигурок поэтов нашего поколения. Мы, наверное, не меньше чем раз сто выступали вместе с Булатом. Окуджаву называли «пошляком с гитарой», меня – «певцом грязных простыней». Вот как высказывался о нашем поколении первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов: «Во всяком половодье есть пена. Она присутствовала и в молодой литературе. Особенно в творчестве Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы… Как метко сказал Л. Соболев, „на переднем крае такие устанавливают вместо пулеметного гнезда ресторанный столик для кокетливой беседы за стаканом коктейля“».
Другой секретарь ЦК ВЛКСМ – интеллигентный красавец Лен Карпинский, будущий номенклатурный диссидент, – признаваясь, что он сам любит послушать песни Окуджавы, тем не менее считал, что они опасны для «неподготовленной» молодежи.
Но чем больше нападок было в адрес Булата, тем больше было и слушателей. Сначала – из любопытства, а потом уже – из любви.
«Говорят, что это – мода. Но если мода не проходит столько лет, может быть, это любовь?» – писал Слуцкий.
Многие из нас были идеалистами, впоследствии обманутыми историей. Это трагично, но, по-моему, все-таки лучше, чем изначально быть беспросветным циником и не иметь за душой никакой надежды – даже разбитой. Сегодняшней Белле Ахмадулиной вряд ли хочется, чтобы кто-нибудь помнил ее как романтическую комсомолочку – старосту курса, но таковой она была. Я до сих пор люблю раннюю песню Булата о комсомольской богине. Но даже эта романтическая чистота вызывала раздражение у давным-давно насквозь проциниченной номенклатуры, благословлявшей романтику лишь в целинно-новостроечном, пахмутовско-кобзоновском варианте.
В 1962 году Булат, Роберт Рождественский, я и Станислав Куняев собирались ехать с женами в туристскую поездку в Швецию, но нас вызвал оргсекретарь Московской писательской организации, бывший генерал КГБ Ильин и сообщил, что Булата где-то «наверху» «вычеркнули» из списка. Мы единодушно, и в том числе Куняев, заявили, что без Булата никуда не поедем. Только в результате нашего прямого шантажа возможным скандалом Булата первый раз выпустили за границу. Но вот что поразительно – он держал себя там с таким спокойным достоинством и с таким сдержанным ироничным любопытством, что порой казалось: это мы за границей первый раз, а он там – частый, слегка скучающий гость.