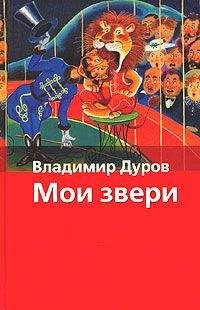Я представлял себе лыжи и коньки — я любил зимний спорт, которым у нас в те годы мало кто занимался.
Так закончилось беспокойное лето 1920 года. Я не поехал за границу — и, может быть, к лучшему. Судьба человека темна. Судьба слепа. Попав к Аррениусу, я мог бы увлечься каким–либо другим научным вопросом или этот другой вопрос мог быть мне поручен Аррениусом, а отказаться от него тоже было бы неудобно, и дело всей моей жизни — проблема воздуха — и до сих пор не была бы решена. Кто знает? Ведь могло бы быть и так…
Путь, ведущий к достижению какой–либо цели, чаще всего бывает не прямым, а сложным, зигзагообразным, иногда похожим на путь маленькой частицы, совершающей запутанное броуновское движение. Таков был и мой путь из кабинетной в экспериментальную науку. Все оказалось гораздо сложнее, чем я себе представлял. Во много раз сложнее. В один прекрасный день, дабы продолжить заниматься наукой, я должен был формально преобразиться в литератора. Хотя я был всегда неравнодушен к литературному мастерству и к тонкому искусству поэзии, я никак не мог предположить, что звучащая во мне струна должна будет проявить себя и во вне. Правда, от меня не требовали какого–либо выдающегося литературного произведения, но Анатолий Васильевич Луначарский просто порекомендовал мне зачислиться в Литературный отдел Наркомпроса и уже в качестве литературного инструктора отправиться в город Калугу.
— Кстати, — сказал он, — ваша патетическая книга «Академия поэзии» дает вам на то полное и несомненное право.
Я был несколько смущен этим комплиментом и хотел было отказаться от неожиданно свалившегося на меня предложения, но он продолжал:
— Наркомпрос не может сейчас помочь вам как ученому, так как у нас нет подходящей научной должности в Калуге, но Литературный отдел как раз посылает в разные города своих инструкторов, среди них — видных литературных деятелей, известных писателей и поэтов. И мы можем также направить вас в Калугу как литературного инструктора, а я вас снабжу всеми необходимыми документами, чтобы вы могли заниматься наукой.
И обратившись к своему секретарю Александру Николаевичу Флаксерману, сказал:
— Заготовьте, пожалуйста, необходимые письма от моего имени в Калужское губоно и в другие места. Подумайте с Александром Леонидовичем, куда еще надо написать, чтобы обеспечить условия для его научной работы в Калуге.
Мне оставалось только поблагодарить Анатолия Васильевича. На другой день с его письмом я пошел уже к заместителю заведующего Литотделом Валерию Яковлевичу Брюсову, моему знакомому по Московскому литературно–художественному кружку.
Тут придется сделать некоторое отступление в «прошлое», отойти ровно на пять лет назад. Осень 1915 года была для меня значительной не только потому, что я уже вынашивал неотступную идею об электричестве и кислороде, но и потому, что подружился со студентом юридического факультета Московского университета Георгием Ивановичем Зубовым и с кандидатом прав Алексеем Александровичем Дубенским, которые были увлечены сверхмодными формами поэзии, что, однако, не мешало им бывать и в более умеренных литературных кружках, куда они вовлекли и меня, зная мою слабость по этой части. В зимние семестры 1915―1916 годов я познакомился со многими писателями и поэтами. На первом месте среди них для меня в то время стояли Иван Алексеевич Бунин и Валерий Яковлевич Брюсов. Бунин был великим художником слова, Брюсов — виртуозом поэтической выдумки. Оба — ничем не походили друг на друга. И. А. Бунин был прост, добродушен и дружелюбен. В. Я. Брюсов — сложен, насторожен и осторожен. Оба охотно узнавали меня в студенческом сюртуке или в темном пиджаке, когда я встречался с ними в Московском литературно–художественном кружке, что на Большой Дмитровке /ныне Пушкинская улица/, или у общих знакомых. Я не рисковал задерживать их своими разговорами более того, чем это было положено правилами приличия. Поэтому я бывал немало удивлен, когда Иван Алексеевич, стихами которого я увлекался еще со времени прочтения книги «Листопад», удостаивал меня трех- или пятиминутного разговора. А однажды его брат, Юлий Алексеевич, и он пригласили меня на литературный вечер, и Иван Алексеевич любезно вручил мне визитную карточку, в которой значилось: «Иван Алексеевич Бунин. Почетный академик». Но посетить И. А. Бунина мне так и не удалось. То же я мог сказать и про Валерия Яковлевича Брюсова, который всегда угощал меня своими «домашними» папиросами, после того как я однажды похвалил аромат его табака.
— Стамболи? Месаксуди?
— Нет, это смесь, — ответил он и запомнил, что мне понравились его папиросы.
В том же 1915 году я познакомился с целой плеядой писателей и поэтов: Алексеем Николаевичем Толстым с его большой львиной шевелюрой, красавцем в поддевке Леонидом Николаевичем Андреевым, скромным Александром Ивановичем Куприным, Евгением Николаевичем Чириковым, с Игорем Северяниным и, наконец, даже с мадам Вербицкой, автором нашумевшего романа «Ключи счастья».
Как молодые писатели, так и средневозрастные сначала немало потешались над «желтой кофтой» и некоторыми формами футуризма, который уже в те годы давал себя чувствовать.
Но футуризм рос как протест против всего на свете — против монархического строя и против российского мещанства. Впрочем, кое–кто из футуристов дошел до абсурда — до звукоподражания без всякого смысла. Высоко вознеслись в то время Мариенгоф, Шершеневич, Бурлюк, Пастернак. /Мои попытки писать в модном духе ограничились несколькими стишками/.
Всех этих поэтов я знал лично, встречался в «Бродячей собаке», в «Стойле пегаса» и в «Домино», где в закулисной комнате восседали и спорили о достоинствах русской речи поэт–математик Сергей Павлович Бобров, с которым мне пришлось впоследствии часто общаться и даже сотрудничать, и литературовед Дмитрий Дмитриевич Благой. Это было время, когда Сергей Александрович Есенин ездил по Тверской на лихаче в цилиндре с белой хризантемой в петлице и Владимир Владимирович Маяковский потрясал окна РОСТА и лекционные залы не только своим остроумием, но и своим богатырским рыком. С С. А. Есениным в ближайшие годы я встречался в Лито Наркомпроса, а с В. В. Маяковским частенько обедал за одним столом в Доме Герцена на Тверском бульваре, где я столовался в течение ряда лет. Я имел возможность не только хорошо узнать этого талантливого человека, но и не раз испытать на себе его острословие.
Однажды кто–то все–таки передал Владимиру Владимировичу тетрадку моих стихов, после прочтения коих он дружески похлопал меня по плечу, сказав: